Пространство и время - [36]
— Ты что, за пятак целый день собираешься кататься?
— Нет, нет, я…
— Дальше не повезу. Переходи на другой. У меня обед.
— Ага, — кивнула Томка и собралась было выйти из автобуса.
— Если в центр — могу подбросить. Бесплатно, — сказал шофер.
— В центр? Можно в центр, — согласилась Томка. — Спасибо. Мне как раз в центр…
Но зачем ей в центр, она не знала, ей было все равно куда ехать, лишь бы не сидеть на месте. Когда подъехали к центральной городской площади, шофер распахнул дверцы, но Томка продолжала сидеть как заколдованная, она опять ничего не замечала, тупо уставившись за оконное стекло; шофер вылез из кабины:
— Слушай, ты что, с приветом?
— Ой, извините, — спохватилась Томка.
— Нет, стоп! — остановил ее шофер. — Ты откуда такая? Случилось что-нибудь?
— Все нормально…
— Ладно заливать! — покачал головой шофер. — Вот что, поедешь со мной. Обедать тебе все равно надо? Хватит на автобусах кататься… — И, не выслушав даже Томкин ответ, шофер захлопнул дверцы, дал газ и свернул в ближайший проулок.
Дома у него она неожиданно расплакалась. Из кухоньки вышла согбенная, седая, древняя старуха, страшная на вид, но совершенно безобидная, взглянула на Томку, будто знала ее сто лет, не удивилась, не сказала ничего, и тут Томка, сама не зная отчего, и расплакалась, разрыдалась. Никто Томку не утешал, ни старуха, ни сын ее Михаил, старуха просто взяла Томку за руку и повела на кухню, усадила на стул и о чем-то спросила.
— Спрашивает, есть будешь? — как бы перевел ее слова Михаил. Потом подошел поближе к матери, почти прокричал ей на ухо: — Будет, будет!
Томка перестала плакать, как-то стыдно стало их обоих, при чем тут ее слезы, когда здесь своя жизнь, да и никто не обращает внимания на ее рыдания, подумаешь, горе какое…
— Она думает — ты невеста моя. Наконец-то, мол, остепенился! — как бы со смешком прокомментировал Михаил. — Так что ты бабку не расстраивай. Поддакивай…
Томка, сама не зная зачем, кивнула.
Старуха трясущимися руками налила в две тарелки щи, Михаил начал с аппетитом хлебать, а старуха все подсовывала и подсовывала Томке потемневшую от времени алюминиевую ложку, а когда Томка потихоньку-помаленьку стала наконец хлебать щи, старуха слезливо наблюдала за ними и покачивала то ли от одобрения, то ли от немощи седой головой. Щи Томке показались необычно вкусными, она и не ожидала, что сможет, оказывается, различать вкус, и, как и Михаил, съела до дна; глаза у старухи довольно блестели, и при всякой возможности она старалась погладить своей шершавой, высохшей, легкой, как перышко, ладонью руку Томки, и та не смела убрать ее, хотя прикосновения старухи были не очень приятными — все же старуха была еще чужая. В те же тарелки старуха положила им гречневой каши с мясом в желто-золотистой подливке, и Томка снова ела с аппетитом, забыв за едой о всех своих горестях-злосчастиях. Если бы час или два назад ей сказали, что вскоре она будет сидеть в чужой квартире среди чужих людей и от души хлебать щи и есть гречневую кашу с мясом, — разве бы она поверила? Весь мир казался ей пустым и черным, и что делать в этом мире, она просто не знала, вышла из больницы как чумная и как чумная каталась по городу, не зная, кого просить о помощи, к кому обратиться за советом…
Покончив с обедом, наскоро выпив стакан компота, Михаил вскочил со стула, крикнул Томке уже из коридора: «Без меня не уходи. Присмотри за матерью!» — и хлопнул дверью. Может быть, не скажи он последних слов — «Присмотри за матерью!» — Томка бы и в самом деле ушла, хотя уходить ей никуда не хотелось, не потому, что понравилось здесь, просто куда же было уходить? Пообедав, Томка быстренько взялась за мытье посуды, старуха пыталась было помешать ей, но Томка ласково усадила ее на стул и в два счета перемыла посуду — всю, что скопилась в мойке. Старуха наблюдала за ней, одобрительно покачивая седой головой, и даже что-то говорила вслух, но Томка не могла разобрать слов и только изредка поддакивала: «Да, да, бабушка…» Вскоре Томка почувствовала почти настоящий зуд в руках, захотелось все перемыть в квартире, прибрать, привести в порядок, но, во-первых, она не решалась — мало ли как старуха посмотрит на ее затею, во-вторых, не так еще хорошо чувствовала себя, у самой колени от слабости дрожат…
Томка оглянулась на старуху, а та, оказывается, дремлет; не дремлет даже, а спит, продолжая и во сне тихонько покачивать головой. Томке так вдруг стало жалко эту откровенную, беспомощную старость, что она чуть опять не расплакалась, осторожно подошла к старухе и, легко положив ей на плечо руку, тихо сказала: «Пойдемте, бабушка, пойдемте…» Старуха, конечно, не расслышала ее слов, но вздрогнула от прикосновения руки, трудно, тяжело приоткрыла серо-желтушные, почти свинцовые морщинистые веки и долго смотрела на Томку бессмысленным, пустым, далеким, почти неземным взглядом, так, видно, и не поняв, где она и кто стоит с ней рядом. Но движения Томки она послушалась, когда та, подхватив старуху за талию, постаралась приподнять ее со стула; шаркая ногами, придерживаемая Томкой, которая и сама-то еще шагала с трудом, старуха поплелась в комнату, улеглась на диван и, тяжко вздохнув, закрыла глаза. Томка увидела на стуле небрежно брошенную пуховую шаль, укрыла шалью старуху, которая, как малое дитя, съежилась на диване, подобрав под себя ноги, и стала похожа на куклу — такая она стала маленькая, с неживыми чертами лица, как бы с каким-то искусственным, нездоровым румянцем на щеках. Старуха лежала, подложив под свою седую голову два маленьких ссохшихся кулачка, и было даже не видно, не слышно, дышит ли она, так она спала почти безжизненно, почти без признаков дыхания. Томка постояла рядом со старухой, и ей вдруг жуткой показалась человеческая жизнь, которая кончается вот такой немощью, такими глубокими, как борозды, морщинами, и трудно было даже определить возраст старухи — она была похожа на древнюю мумию. А потом Томке стало жалко старуху, жалко себя, жалко всех людей; свое горе показалось незначительным, не стоящим таких тяжелых переживаний, само течение жизни, которая и без всяких драм ускользала от человека сквозь пальцы, было гораздо внушительней, серьезней и страшней…

Георгий Баженов издал уже несколько книг повестей, его рассказы неоднократно публиковались в центральной периодике.Издательство «Современник» знакомит читателя с новой книгой молодого писателя — «Хранители очага». Произведение представляет собой хронику жизни большой уральской семьи. Автор исследует сложные человеческие взаимоотношения в наиболее острые жизненные ситуации.
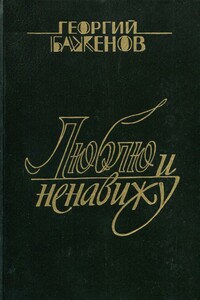
Повести Георгия Баженова — о самых сложных человеческих взаимоотношениях, которые принято называть семейными. Святость и крепость этих уз не подлежат сомнению, однако сколько драм и трагедий порой скрепляют они, тогда как должны приносить только счастье.

Его арестовали, судили и за участие в военной организации большевиков приговорили к восьми годам каторжных работ в Сибири. На юге России у него осталась любимая и любящая жена. В Нерчинске другая женщина заняла ее место… Рассказ впервые был опубликован в № 3 журнала «Сибирские огни» за 1922 г.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.

Прозаика Вадима Чернова хорошо знают на Ставрополье, где вышло уже несколько его книг. В новый его сборник включены две повести, в которых автор правдиво рассказал о моряках-краболовах.
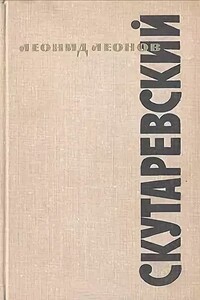
Известный роман выдающегося советского писателя Героя Социалистического Труда Леонида Максимовича Леонова «Скутаревский» проникнут драматизмом классовых столкновений, происходивших в нашей стране в конце 20-х — начале 30-х годов. Основа сюжета — идейное размежевание в среде старых ученых. Главный герой романа — профессор Скутаревский, энтузиаст науки, — ценой нелегких испытаний и личных потерь с честью выходит из сложного социально-психологического конфликта.
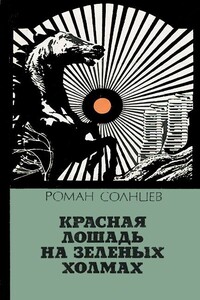
Герой повести Алмаз Шагидуллин приезжает из деревни на гигантскую стройку Каваз. О верности делу, которому отдают все силы Шагидуллин и его товарищи, о вхождении молодого человека в самостоятельную жизнь — вот о чем повествует в своем новом произведении красноярский поэт и прозаик Роман Солнцев.

Владимир Поляков — известный автор сатирических комедий, комедийных фильмов и пьес для театров, автор многих спектаклей Театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Им написано множество юмористических и сатирических рассказов и фельетонов, вышедших в его книгах «День открытых сердец», «Я иду на свидание», «Семь этажей без лифта» и др. Для его рассказов характерно сочетание юмора, сатиры и лирики.Новая книга «Моя сто девяностая школа» не совсем обычна для Полякова: в ней лирико-юмористические рассказы переплетаются с воспоминаниями детства, героями рассказов являются его товарищи по школьной скамье, а местом действия — сто девяностая школа, ныне сорок седьмая школа Ленинграда.Книга изобилует веселыми ситуациями, достоверными приметами быстротекущего, изменчивого времени.