Прощание - [142]
Я заторопился, чтобы как можно скорее пройти наверх по отлогому склону вдоль зеленой проволочной изгороди, за которой густо росли кусты, как будто боялся опоздать, в то время как другое чувство побуждало меня как можно дольше тянуть время, пока я один, может быть, даже найти какое-нибудь кафе и почитать там газету. Ведь одно дело сидеть у бабушки вместе с Ингве, и совсем другое – с ней наедине. Ингве знал, как с ней разговаривать. Но тот легкий, шутливый тон, которым владели также Эрлинг и Гуннар, мне давался почему-то, мягко говоря, не просто, и в тот гимназический год, когда я, живя поблизости, проводил у бабушки с дедушкой много времени, на них моя манера поведения, кажется, производила неприятное впечатление, как будто во мне было что-то такое, чего они не могли принять, и эта догадка нашла свое подтверждение: однажды мне позвонила мама и сказала, что бабушка просит меня приходить немного пореже. В большинстве случаев я мог как-то пережить подобное, но не в том: ведь это были мои бабушка и дедушка, а коли даже они меня не принимают, это уже выше моих сил, – и я заплакал, прямо в трубку. Она, конечно, тоже была возмущена до глубины души, но что она могла поделать? Тогда я не понимал, в чем дело, и решил, что они меня просто не любят, но потом я начал догадываться, что им во мне мешало. Я совершенно не умел притворяться, не умел играть роль, а долго игнорировать ту гимназическую серьезность, которую я привносил с собой в этот дом, было невозможно: либо им надо было ее принять, со всеми вытекающими неудобствами, поскольку жаргон, которым они пользовались в своем обиходе, на меня совершенно не действовал, – либо поступить так, как они и сделали: позвонить маме. Мое присутствие всегда чего-то от них требовало, – либо конкретного, вроде еды, так как я заходил к ним между школой и тренировкой и иначе оставался бы до восьми или девяти вечера голодным, либо денег, потому что в вечерние часы, в отличие от дневных, автобусы уже не возили учащихся бесплатно, а заплатить за проезд я мог не всегда. Ни того ни другого – ни денег, ни еды – им для меня, конечно, было не жалко, но, очевидно, их раздражала жесткая обязательность такой помощи, не оставляющая им выбора: накормить меня и дать денег превратилось из добровольного поступка во что-то другое, и это другое в чем-то меняло отношения между нами, связывало нас новыми узами, которых они на себя налагать не хотели. Тогда я этого не понимал, а теперь понимаю. То же относится и к моему способу существования, когда я с ними близко соприкасался. Дать мне этой близости они не могли, да, очевидно, и не хотели, а я и это брал не спросясь. Вся ирония в том, что во время этих посещений я всегда думал о них, всегда старался говорить то, что, как мне казалось, они хотят услышать. Все, даже самое личное, я выкладывал потому, что думал, будто им приятно будет это услышать, а не потому, что мне хотелось высказаться.
Но хуже всего, думал я сейчас, проходя по аллее, ведущей в Люнн, вдоль вечерней вереницы автомобилей, мимо ряда деревьев с потемневшими от асфальтовой пыли и выхлопных газов стволами, тяжелыми и словно окаменевшими по сравнению с легкой зеленью крон наверху; хуже всего было то, что я в то время считал себя большим знатоком человеческих душ. Уж в чем, в чем, полагал я, а в этом я разбираюсь, сам оставаясь для них загадкой.
Какая глупость!
Я засмеялся. И тотчас же обернулся проверить, не смотрят ли на меня из какой-нибудь машины. Но нет. Каждый был занят своим.
За прошедшие двенадцать лет я, наверное, поумнел, но по-прежнему не умел притворяться. Не умел врать, играть роль. Поэтому я с радостью предоставял Ингве договариваться с бабушкой. А теперь придется самому.
Я остановился и закурил сигарету. Продолжив свой путь, я почувствовал, что на душе у меня почему-то полегчало. Может, этому способствовали белые, но потемневшие от выхлопов фасады домов, которые тянулись слева от меня? Или деревья на аллее? Эти неподвижные, зеленые, купающиеся в потоках воздуха создания с их несчетными листьями? Потому что стоило мне на них взглянуть, как в душу вливалась радость.
Я глубоко вдохнул на ходу, роняя на асфальт пепел с сигареты. Воспоминания, пробуждаемые окружающими картинами, не воспринятые мною, когда мы проезжали мимо этих мест по дороге к часовне, сейчас нахлынули с неожиданной силой. Моя память об этих местах относилась к двум периодам: первому, когда я еще маленьким приезжал сюда, в Кристиансанн, в гости к бабушке с дедушкой, и тогда каждая деталь городской жизни врезалась в нее как что-то необычайное, и второму, когда я жил тут подростком. Сейчас, после нескольких лет отсутствия, я с самого начала заметил, как поток впечатлений, исходивший от здешнего окружения, разделяется на два рукава: один относится к первому миру воспоминаний, другой – ко второму, и я, таким образом, как бы существую одновременно в трех разных временных измерениях. Увидев аптеку, я вспомнил, как мы с Ингве ходили туда однажды с бабушкой: на улице высились большие сугробы, шел снег, бабушка была в шубе и меховой шапке, она стала в очередь перед окошечком, за перегородкой ходили туда и сюда фармацевты в белых халатах. Время от времени она оглядывалась назад посмотреть, чем мы заняты. Пока она искала нас взглядом, выражение ее глаз было если не холодное, то, по крайней мере, как бы нейтральное, затем она улыбалась, и взгляд ее, словно по волшебству, наполнялся вдруг теплотой. Увидев холм, по которому шла дорога на Люннский мост, я вспомнил, как показывался на велосипеде дедушка, возвращаясь домой на обеденный перерыв. Легкое покачивание, вызванное пологим подъемом, для меня относилось не только к его езде, но как бы и к личности дедушки: он представал в моих глазах сначала просто пожилым кристиансаннцем в пальто и кепке, чтобы в следующий миг превратиться в моего дедушку. Увидев в конце дороги крыши жилого массива, я вспомнил, как бродил там по ночам шестнадцатилетним подростком, разрываемый переполняющими меня чувствами. Когда все, что я видел, – будь то выброшенная на задворки старая вешалка, опавшие яблоки, гниющие на земле, или накрытая брезентом лодка, из-под которого торчала мокрая корма и нос, а из-под них – желтая, полегшая на землю трава, – все так и пылало красотой. Увидев поросший травой холм за домами по другую сторону дороги, я вспомнил синий, холодный зимний день, когда мы с бабушкой катались с него на санках. Снег так сверкал на солнце, что освещение было как высоко в горах, а город под нами казался от этого таким удивительно открытым, что все, что в нем происходило, – проезжающие по дорогам машины и прохожие на улицах, человек, расчищавший от снега подъездную дорожку к общественному центру напротив, другие дети, катающиеся на санках, – словно парило в воздухе под открытым небом, не касаясь земли. Все это жило во мне, в то время как я шел по дороге; все эти картины и мысли пробуждались окружающим пространством, но только на поверхности, в самом внешнем слое сознания, ведь папа умер, и горе, вызванное его смертью, пронизывало собой все мои мысли и чувства, как бы их отменяя. Папа в этих воспоминаниях тоже присутствовал, но не играл в них ведущей роли; как ни странно, мысли о нем ничего такого не вызывали. Папа, идущий передо мной на несколько метров впереди в начале семидесятых годов, когда мы возвращались домой к бабушке с дедушкой, сходив в табачный киоск за ершиками для курительной трубки; вот он вскидывает подбородок и поднимает голову, улыбаясь своим мыслям, и как я от этого радуюсь; или папа в банке, вынув бумажник, свободной рукой проводит пятерней по волосам и смотрит на свое отражение в окошке кассы; или папа в автомобиле, когда мы уезжаем из города; ни в одном из этих воспоминаний папа не воспринимался как значимая фигура. Вернее говоря, воспринимался в то время, когда это происходило, но не теперь. А вот с мыслью о том, что он умер, дело обстояло иначе. В ней он царил безраздельно, но этим все и ограничивалось, ибо, шагая сейчас под легким моросящим дождичком, я словно находился в особой зоне. Все за ее пределами вообще не имело никакого значения. Я смотрел, воспринимал увиденное, думал, и тут же все, что я увидел и подумал, отменялось: оно не имело значения. Ничто не имело значения. Значимо было только одно – папа умер.
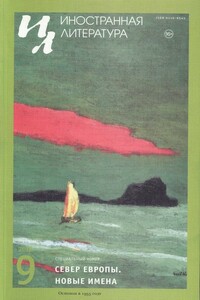
Стремясь представить литературы четырех стран одновременно и как можно шире, и полнее, составители в этом разделе предлагают вниманию читателя smakebit — «отрывок на пробу», который даст возможность составить мнение о Карле Уве Кнаусгорде, Ингер Кристенсен и Йенсе Блендструпе — писателях разных, самобытных и ярких.

«Любовь» — вторая книга шеститомного автобиографического цикла «Моя борьба» классика современной норвежской литературы. Карл Уве оставляет жену и перебирается из Норвегии в Швецию, где знакомится с Линдой. С бесконечной нежностью и порой шокирующей откровенностью он рассказывает об их страстном романе с бесчисленными ссорами и примирениями. Вскоре на свет появляется их старшая дочь, следом — еще дочь и сын. Начинаются изматывающие будни отца троих детей. Многое раздражает героя: и гонор собратьев по перу, и конформизм как норма жизни в чужой для него стране.

«Детство» — третья часть автобиографического цикла «Моя борьба» классика современной норвежской литературы Карла Уве Кнаусгора. Писатель обращается к своим самым ранним воспоминаниям, часто фрагментарным, но всегда ярким и эмоционально насыщенным, отражающим остроту впечатлений и переживаний ребенка при столкновении с окружающим миром. С расстояния прожитых лет он наблюдает за тем, как формировалось его внутреннее «я», как он учился осознавать себя личностью. Переезд на остров Трумейя, начальная школа, уличные игры, первая обида, первая утрата… «Детство» — это эмоционально окрашенное размышление о взрослении, представленное в виде почти осязаемых картин, оживающих в памяти автора.

Четвертая книга монументального автобиографического цикла Карла Уве Кнаусгора «Моя борьба» рассказывает о юности главного героя и начале его писательского пути. Карлу Уве восемнадцать, он только что окончил гимназию, но получать высшее образование не намерен. Он хочет писать. В голове клубится множество замыслов, они так и рвутся на бумагу. Но, чтобы посвятить себя этому занятию, нужны деньги и свободное время. Он устраивается школьным учителем в маленькую рыбацкую деревню на севере Норвегии. Работа не очень ему нравится, деревенская атмосфера — еще меньше.

В своём произведении автор исследует экономические, политические, религиозные и философские предпосылки, предшествующие Чернобыльской катастрофе и описывает самые суровые дни ликвидации её последствий. Автор утверждает, что именно взрыв на Чернобыльской АЭС потряс до основания некогда могучую империю и тем привёл к её разрушению. В романе описывается психология простых людей, которые ценою своих жизней отстояли жизнь на нашей планете. В своих исследованиях автору удалось заглянуть за границы жизни и разума, и он с присущим ему чувством юмора пишет о действительно ужаснейших вещах.
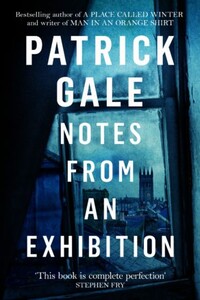
В своей чердачной студии в Пензансе умирает больная маниакальной депрессией художница Рэйчел Келли. После смерти, вместе с ее гениальными картинами, остается ее темное прошлое, которое хранит секреты, на разгадку которых потребуются месяцы. Вся семья собирается вместе и каждый ищет ответы, размышляют о жизни, сформированной загадочной Рэйчел — как творца, жены и матери — и о неоднозначном наследии, которое она оставляет им, о таланте, мучениях и любви. Каждая глава начинается с заметок из воображаемой посмертной выставки работ Рэйчел.

Эльф по имени Блик живёт весёлой, беззаботной жизнью, как и все обитатели "Огненного Лабиринта". В городе газовых светильников и фабричных труб немало огней, и каждое пламя - это окно между реальностями, через которое так удобно подглядывать за жизнью людей. Но развлечениям приходит конец, едва Блик узнаёт об опасности, грозящей его другу Элвину, юному курьеру со Свечной Фабрики. Беззащитному сироте уготована роль жертвы в безумных планах его собственного начальства. Злодеи ведут хитрую игру, но им невдомёк, что это игра с огнём!

Шестой ангел приходит к тем, кто нуждается в поддержке. И не просто учит, а иногда и заставляет их жить правильно. Чтобы они стали счастливыми. С виду он обычный человек, со своими недостатками и привычками. Но это только внешний вид…
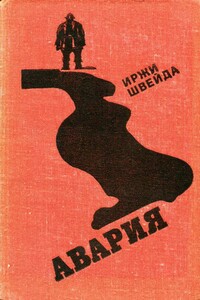
Роман молодого чехословацкого писателя И. Швейды (род. в 1949 г.) — его первое крупное произведение. Место действия — химическое предприятие в Северной Чехии. Молодой инженер Камил Цоуфал — человек способный, образованный, но самоуверенный, равнодушный и эгоистичный, поражен болезненной тягой к «красивой жизни» и ради этого идет на все. Первой жертвой становится его семья. А на заводе по вине Цоуфала происходит серьезная авария, едва не стоившая человеческих жизней. Роман отличает четкая социально-этическая позиция автора, развенчивающего один из самых опасных пороков — погоню за мещанским благополучием.
