Прорабы духа - [31]
Из затеи с Микеланджело ничего не вышло, хотя я перевод сделал. Помню, он созвал к себе домой Хачатуряна, Щедрина, ну почти весь секретариат, и заставил меня им прочесть. Сам нервно, по-кошачьи чесался. Он был доволен.
Но что-то там не успело, или певец уже разучил прежние тексты, или не заладилась новая музыка, но случилось так, что в Ленинграде на премьере исполнена была музыка с прежними текстами, которые ему хотелось заменить.
Он написал мне длинное достоевское извинительное письмо. Это была не только нота бережности и деликатности, за ней предчувствовалось иное.
Он задумал и рассказал мне замысел нового своего произведения, которое в уме уже написал на темы семи моих стихотворений, среди которых были «Плач по двум нерожденным поэмам», «Порнография духа» и др. Но записать он эту музыку не успел. Музыка осталась иным стихиям.
Дыра этой ненаписанной вещи слилась с дырами других не написанных им вещей и влилась в безмолвную бездну небытия, что нас окружает.
Он был так слаб в последние дни, что пальцы не держали листа бумаги. У меня хранится партитура его музыки к моему переводу, где дергающимся кардиограммным почерком написаны ужаснувшие слова: «Кончину чую».
Ответьте детству!
В какую дыру забросила нас эвакуация, но какая добрая это была дыра! Частенько у нас отключали свет. Керосин жалели. Население нашего деревянного дома, мы все сидели на крыльце, озаренные ровным светом ночного бесплатного неба. Сумерничали. Не выражались.
Курящие сидели на корточках, держа самокрутки двумя коричневыми от табака пальцами, большим и указательным, огоньком вниз. Когда затягивались, красным светом озарялись снизу губы, ноздри и морщины щек. Пухлые губы Мурки-соседки появлялись и исчезали из темноты, как в круглом зеркальце. После затяжки она мелко сплевывала, далеко цыкала сквозь зубы. От нее пахло цветочным мылом. Щуплый Потапыч, только что отмотавший срок, докуривал чинарик до края, почти обжигая губы.
Говорили, что прибыл состав с ленинградцами. «Доходяги», — жалели их.
Экономные цигарки скручивались из крупно нарубленного самосада. Газеты ценились. Табак рос на огородных грядках темными лапушными листьями.
К соседке ездил вздыхатель, пожилой шофер из летной части. Машину он заводил во двор, к крыльцу. Мурка выжидала.
Один раз он привез ей апельсин. Видно, их выдавали летчикам. Апельсин был закутан в специальную папиросную бумажку. Мурка развернула ее и разгладила на коленке. Коленка просвечивала сквозь белую бумагу, как ранее апельсин. На бумаге было напечатано круглое солнце с лучами и какая-то надпись по-грузински.
«Дар солнечной Грузии», — сказал Потапыч. Мурка сложила бумажку, как платочек, в четыре раза и сунула в карман ватника.
— На табачок хорошо, — сказала хозяйка.
«Хорошо через папиросную бумажку на гребенке дудеть», — подумал я. Я знал апельсины по первомайским демонстрациям и новогодним елкам.
Мурка дочистила кожуру до донышка, где мякоть образует белый поросячий хвостик. Кожуру положила в карман ватника.
Она ела апельсин, наверное, полчаса. Долька за долькой исчезали в красивой ненасытной Муркиной пасти. Когда осталось две дольки, она сказала мне: «На, школьник, попробуй». И дала одну. Скулы свело от счастья.
Рядом остывал мотор «студебеккера». Сибирские сумерки пахли бензином и апельсинами. Этот запах мешался с запахом махорки, псины и молочным запахом тесового крыльца, только что вымытого горячей водой.
Потом они сидели, обжимаясь, в кабине, подсвеченные красным щитком, и слушали радио при включенном двигателе. Стекла они опустили, чтобы было слышно всем.
Шла трансляция из Ленинграда. Негромкая музыка была хриплой, режущей, непонятно страшной и великой — до кожи продирало.
Слушали напряженно. Лица все чаще озарялись и гасли. Поблескивал Тобол. Все, что они слушали, было про них, про их судьбы. Они не понимали всего, о чем писал композитор. Но все, что происходило с ними, со страной, стало музыкой, страшной и великой.
Останавливались у частокола.
— Что такое передают? — спрашивали.
— Шостаковича, — не сразу сказала Мурка.
— Доходяга, а какую симфонию написал! — сказал Харитоныч.
Обрубок рельса висел на краю деревни. К нему вела скользкая обледенелая тропа. Он висел на огромном суку березы, на таком же светло-сером небе, висел как хмурый пугачевец или Франсуа Вийон российских рельс.
В тихую ночь он обманно поблескивал, как отрезок запретного отвесного пути к Луне.
Когда не видели взрослые, мы раскачивались на нем, а в мороз мгновенно, чтобы не примерзнуть, лизали языками. Он был обжигающе кислый на вкус.
Когда горели Чуркины, нас разбудил отчаянно чистый, сплошной, исступленный, часто колотящийся звон.
Бледная до посинения Мурка в огромной колючей шинели, наброшенной на заспанное голое тело, лупила в рельс металлической плюхой.
В красном мгновенном мраке застыли фигуры с топорами и ведрами, в гипсовых подштанниках на полуголых телах.
Красный отсвет, как ободок, бился на рельсе. Рельс плясал в ночном небе, выписывая гигантские безумные буквы, вопило набатной музыкой, шаталось древо из огненных пророческих букв.
О, музыка… — добавляет Джон Робертс.
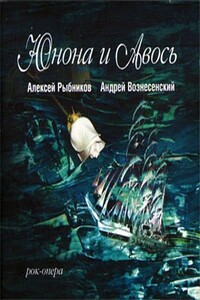
Опера «Юнона» и «Авось» в исполнении театра «Рок-Опера» поражает зрителя не только трогательной историей любви, но и завораживающей музыкой, прекрасным живым исполнением, историческим костюмом и смелостью режиссёрских ходов и решений, не переходящих, тем не менее, грань классической театральной эстетики и тонкой магии театрального действа.
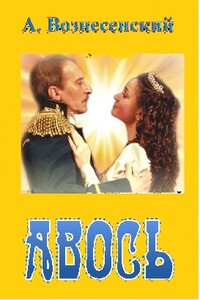
Описание в сентиментальных документах, стихах и молитвах славных злоключений Действительного Камер-Герра Николая Резанова, доблестных Офицеров Флота Хвастова и Довыдова, их быстрых парусников "Юнона" и "Авось", сан-францисского Коменданта Дон Хосе Дарио Аргуэльо, любезной дочери его Кончи с приложением карты странствий необычайных.
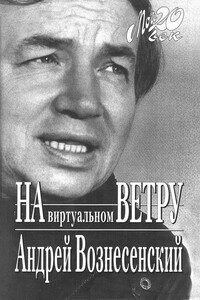
Андрей Вознесенский (род. в 1933 г.), автор многочисленных поэтических сборников — «Треугольная груша», «Дубовый лист виолончельный», «Казино „Россия“» и др. По его стихам были поставлены спектакли — «Антимиры» на Таганке и «Юнона и Авось» в Ленкоме. Жизнь его, как и подобает жизни настоящего поэта, полна взлетов и падений, признания и замалчивания. Неизменным остается лишь восторженное почитание миллионов поклонников — от «шестидесятников» до современных юнцов. «Андрей Вознесенский — будет…» — так писал поэт сам о себе много лет назад.

В новую книгу «Тьмать» вошли произведения мэтра и новатора поэзии, созданные им за более чем полувековое творчество: от первых самых известных стихов, звучавших у памятника Маяковскому, до поэм, написанных совсем недавно. Отдельные из них впервые публикуются в этом поэтическом сборнике. В книге также представлены знаменитые видеомы мастера. По словам самого А.А.Вознесенского, это его «лучшая книга».

Новая книга стихов большого и всегда современного поэта, составленная им самим накануне некруглого юбилея – 77-летия. Под этими нависающими над Андреем Вознесенским «двумя топорами» собраны, возможно, самые пронзительные строки нескольких последних лет – от «дай секунду мне без обезболивающего» до «нельзя вернуть любовь и жизнь, но я артист. Я повторю».

Новые стихи поэта, составившие эту книгу, отмечены свойственной ему эмоциональной реакцией на острые социальные проблемы нашего времени.Кроме стихотворений гражданского звучания, в книгу вошли стихи о жизни людей искусства, о природе, о любви.От издательства.

«Ашантийская куколка» — второй роман камерунского писателя. Написанный легко и непринужденно, в свойственной Бебею слегка иронической тональности, этот роман лишь внешне представляет собой незатейливую любовную историю Эдны, внучки рыночной торговки, и молодого чиновника Спио. Писателю удалось показать становление новой африканской женщины, ее роль в общественной жизни.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.