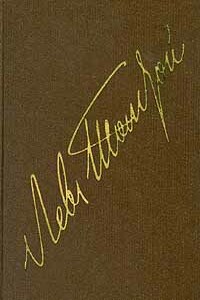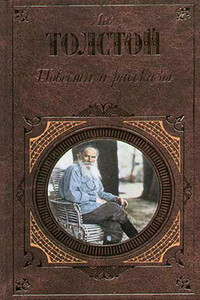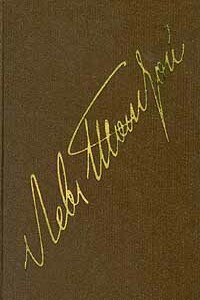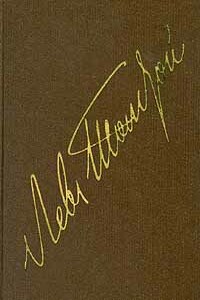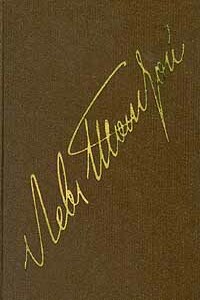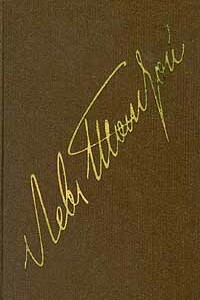Хорошо. Гусар выиграл, и пошли кушать. Сели за стол; только Нехлюдов и говорит:
— Simon! бутылку Клодвужо; да смотри, согреть хорошенько.
Simon ушел, приносит кушанье, бутылки нет.
— Что ж, — говорит, — вино? Simon побежал, приносит жаркое.
— Подавай же вино, — говорит.
Simon молчит.
— Что ты, с ума сошел! мы уж кончаем обедать, а вина нет. Кто ж его пьет с десертом?
Побежал Simon.
— Хозяин, — говорит, — вас просит.
Покраснел весь, выскочил из-за стола,
— Что, — говорит, — ему надо? А хозяин стоит у двери.
— Я, — говорит, — не могу вам больше верить, коли вы мне по счету не заплатите.
— Да я, — говорит, — вам сказал, что я в первых числах отдам.
— Как вам угодно, — говорит, — будет; а я в долг не могу беспрестанно давать и ничего не получать. У меня и так, — говорит, — десятки тысяч в долгах пропадают.
— Ну, полно, моншер[32],— говорит, — уж мне-то можно поверить. Пришлите бутылку, а я постараюсь вам поскорее отдать.
И убежал сам.
— Что это, вас зачем вызывали? — гусар говорит,
— Так, — говорит, — просил меня об одной вещи.
— А славно бы, — говорит гусар, — теперь винца тепленького стакан выпить.
— Simon, что же?!
Побежал мой Simon. Опять нет ни вина, ничего. Плохо. Вышел из-за стола, прибежал ко мне.
— Ради бога, — говорит, — Петруша, дай мне шесть целковых.
А на самом лица нет.
— Нету, — говорю, — сударь, ей-богу, да уж и так за вами моих много.
— Я тебе, — говорит, — сорок целковых за шесть через неделю отдам.
— Коли бы были, — говорю, — я бы не смел отказать, а то, ей-ей, нету.
Так что же? выскочил, зубы стиснул, кулаки сжал, как шальной по коридору бегает, да по лбу себя как треснет.
— Ах, — говорит, — господи! Что это? Даже не зашел в столовую, вскочил в карету и ускакал.
То-то смеху было. Гусар говорит:
— Где, мол, барин, что со мной обедал?
— Уехал, — говорят.
— Как уехал? Что ж он сказать велел?
— Ничего, — говорят, — не велели сказывать: сели да и уехали.
— Хорош, — говорит, — гусь!
Ну, думаю себе, теперь долго ездить не будет, после то есть сраму такого. Так нет. На другой день ввечеру приезжает. Пришел в бильярдную и ящик какой-то с собой принес. Снял пальто.
— Давай играть, — говорит.
Глядит исподлобья, сердитый такой.
Сыграли партийку.
— Довольно, — говорит, — поди принеси мне перо и бумаги: письмо нужно написать.
Я ничего не думамши, не гадамши, принес бумаги, положил на стол в маленькую комнату.
— Готово, — говорю, — сударь.
Хорошо. Сел за стол. Уж он писал, писал, бормотал все что-то, вскочил потом нахмуренный такой.
— Поди, — говорит, — посмотри, приехала ли моя карета?
Дело в пятницу на масленой было, так никого из гостей не было: все по балам.
Я пошел было узнать о карете, только за дверь вышел.
— Петрушка! Петрушка! — кричит, точно испужался чего.
Я вернулся. Смотрю, он белый, вот как полотно, стоит, на меня смотрит.
— Звать, — говорю, — изволили, сударь?
Молчит.
— Что, — говорю, — вам угодно?
Молчит.
— Ах, да! давай еще играть, — говорит. Хорошо. Выиграл он партию.
— Что, — говорит, — хорошо я научился играть?
— Да, — я говорю.
— То-то. Поди, — говорит, — теперь узнай, что карета?
А сам по комнате ходит.
Я себе, ничего не думая, вышел на крыльцо: вижу, кареты никакой нет, иду назад.
Только иду назад, слышу, кием ровно стукнул кто-то. Вхожу в бильярдную: пахнет что-то чудно.
Глядь: а он на полу лежит, ве-есь в крови, и пистоль подле брошена. Так я до того испужался, что слова сказать не мог.
А он дрыгнет, дрыгнет ногой, да и потянется, захрапел потом, да и растянулся вот этаким родом.
И отчего такой грех с ними случился, что душу свою загубил, то есть бог его знает; только что бумагу эту оставил, да и то я никак не соображу.
Уж чего не делают господа!.. Сказано, господа… Одно слово — господа.
«Бог дал мне все, что может желать человек: богатство, имя, ум, благородные стремления. Я хотел наслаждаться и затоптал в грязь все, что было во мне хорошего.
Я не обесчещен, не несчастен, не сделал никакого преступления; но я сделал хуже: я убил свои чувства, свой ум, свою молодость.
Я опутан грязной сетью, из которой не могу выпутаться и к которой не могу привыкнуть. Я беспрестанно падаю, падаю; чувствую свое падение — и не могу остановиться.
Мне легче бы было быть обесчещенным, несчастным или преступным: тогда было бы какое-то утешительное, угрюмое величие в моем отчаянии. Ежели бы я был обесчещен, я бы мог подняться выше понятий чести нашего общества и презирать его. Ежели бы я был несчастлив, я бы мог роптать. Ежели бы я сделал преступление, я бы мог раскаянием или наказанием искупить его; но я просто низок, гадок, знаю это — и не могу подняться.
И что погубило меня? Была ли во мне какая-нибудь сильная страсть, которая бы извиняла меня? Нет.
Семерка, туз, шампанское, желтый в середину, мел, серенькие, радужные бумажки, папиросы, продажные женщины — вот мои воспоминания!
Одна ужасная минута забвения, низости, которой я никогда не забуду, заставила меня опомниться. Я ужаснулся, когда увидел, какая неизмеримая пропасть отделяла меня от того, чем я хотел и мог быть. В моем воображении возникли надежды, мечты и думы моей юности.
Где те светлые мысли о жизни, о вечности, о боге, которые с такою ясностию и силой наполняли мою душу? Где беспредметная сила любви, отрадной теплотой согревавшая мое сердце? Где надежда на развитие, сочувствие ко всему прекрасному, любовь к родным, к ближним, к труду, к славе? Где понятие об обязанности?