Происхождение и ранняя история славян - [4]
В то же время польские лингвисты пересмотрели топонимические материалы и пришли к выводу, что в верховьях Вислы и Одера, т. е. в ареале лужицкой культуры, многие водные названия имеют славянский характер.[16]
Наиболее обстоятельно вопросы славянского этно- и глоттогенеза были разработаны крупнейшим польским славистом Т. Лер-Сплавинским.[17] В основе его этногенетических построений лежат материалы различных наук — языкознания, гидронимии, археологии и антропологии. Суть теории Т. Лер-Сплавинского заключается в следующем. До 2000 г. до н. э. Северо-Восточная Европа (вплоть до Силезии и Померании) была заселена финно-уграми, оставившими культуру гребенчатой керамики. Около 2000 г. до н. э. из Центральной Европы в восточном направлении происходит миграция носителей культуры шнуровой керамики. На востоке эти племена достигают Среднего Поволжья и Северного Кавказа. Это была одна из групп индоевропейцев. В результате их взаимодействия с финно-угорским субстратом на территории между Одером и Окой формируются балто-славяне (или прабалты, включавшие племена, диалекты которых позднее развились в славянский язык). Лужицкую культуру Т. Лер-Сплавинский относил к индоевропейцам-венетам. Расселение их в междуречье Вислы и Одера (1500–1300 гг. до н. э.) привело к отделению части прабалтов, что было первым шагом к образованию славян.
Окончательно славяне сложились к середине I тысячелетия до н. э. после расселения носителей поморской культуры из Нижнего Повисленья в южном направлении. Следствием этого было формирование в Висло-Одерском междуречье пшеворской и оксывской культур, которые рассматривались Т. Лер-Сплавинским как раннеславянские.
Некоторые положения в этногенетическом построении Т. Лер-Сплавинского подвергались критике,[18] отдельные археологические и топонимические выводы кажутся ныне устаревшими, тем не менее его исследование внесло существенный вклад в разработку проблемы происхождения славян. Иногда Т. Лер-Сплавинского, и не без оснований, называют создателем современной истории славянского этногенеза.
В польской историографии особняком стоит гипотеза историка и этнографа К. Мошинского.[19] Его построения, прежде всего, покоятся на предположении о древнем языковом контакте славян с тюрками. Исследователь предположил, что до VII–VI вв. до н. э. Славяне жили где-то в Азии, их соседями на востоке были тюрки, на западе — угры, на юге — скифы.
Эта гипотеза сразу же подверглась резкой критике, ибо с языковедческих позиций славяно-тюркский контакт в столь раннее время невероятен. В последней своей работе К. Мошинский утверждал, что славяне пришли в Поднепровье за несколько веков до нашей эры откуда-то из пограничья Европы и Азии. Для обоснования этого тезиса исследователь много внимания уделил аргументации гипотезы о заселении славянами приднепровских территорий раньше, чем Повисленья.[20]
Несостоятельность гипотезы К. Мошинского показана в одной из работ Т. Лер-Сплавинского.[21]
Развитие исследований по этногенезу славян в нашей стране некоторое время сдерживалось распространением марристских представлений. К тому же многие области Восточной Европы в археологическом отношении до недавней поры были изучены слабо. В частности, неисследованными оставались верхнеднепровские и отчасти среднеднепровские древности I тысячелетия н. э., имеющие первостепенное значение для истории ранних славян.
В 50-х годах вопрос о происхождении славян на основе данных археологии попытались осветить М. И. Артамонов и П. Н. Третьяков.[22] Вслед за польскими археологами М. И. Артамонов полагал, что ранними славянами оставлены лужицкая, поморская и пшеворская культуры. Однако территория славян не ограничивалась Висло-Одерским регионом, а с глубокой древности распространялась на восток вплоть до Подне-провья. Здесь славянам принадлежали скифские культуры Подолии и Среднего Поднепровья. Невры, гелоны и будины Геродота, по М. И. Артамонову, были славянами. Позднее славянскими в Поднепровье были зарубинецкая и черняховская культуры. Славянский язык и в Повисленье, и в Поднепровье, по мнению исследователя, существовал еще с конца энеолита и начала эпохи бронзы.
Согласно представлениям П. Н. Третьякова племена культуры шнуровой керамики, расселившиеся во II тысячелетии до н. э. на территории от Эльбы до Днепра, были протославянами. В I тысячелетии до н. э. славянам принадлежали лужицкая культура, скифские древности лесостепного Поднепровья, а также верхнеднепровская и юхновская культуры. Еще позднее славянами были племена поморской, пшеворской, зарубинецкой и черняховской культур и население, оставившее синхронные им верхнеднепровские древности вплоть до городища Березняки в Ярославском Поволжье.
Ныне эти схематичные этногенетические построения имеют чисто историографический интерес. По мере накопления новых археологических материалов они были коренным образом пересмотрены, в частности и самими их авторами. В последнее время П. Н. Третьяков, с одной стороны, по-видимому, разделял мысль польского археолога А. Гардавского о племенах тшинецкой культуры как основе славянства, а с другой — считал возможным начинать историю славян лишь с рубежа нашей эры — от пшеворской и зарубинецкой культур.
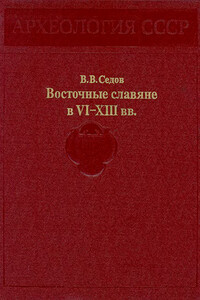
Книга посвящена историй восточных славян в начале средневековья по данным археологии. По материалу из курганов, поселений и других памятников исследуются все стороны культуры восточных славян накануне и в период сложения древнерусской государственности, вопросы формирования и расселения их племенных группировок, взаимоотношения с соседями — финно-угорским, балтским, иранским и тюркским населением. Рассматривается конкретная история каждой из племенных группировок восточных славян.
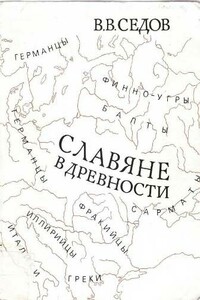
Книга посвящена проблеме становления славян и их ранней истории. Она охватывает период от II тысячелетия до н. э. по середину I тысячелетия н. э. В начале этого периода в Средней Европе существовала древнеевропейская общность, из которой образовались кельты, италики, иллирийцы, германцы и славяне. Завершается он «великим переселением народов». В течение указанного времени культура славян развивалась при взаимодействии с кельтами, германцами, скифо-сарматами и другими древними этносами, испытала влияние провинциально-римской цивилизации.
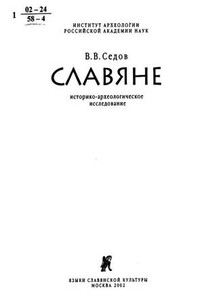
Β книге исследуется история славян того периода, когда они составляли этническое и языковое единство. Труд охватывает значительный промежуток времени — от I тысячелетия до н. э., когда славяне, выйдя из дренеевропейской общности, начали самостоятельный путь развития, до раннего средневековья включительно, когда славянское единство в условиях широкого расселения и метисации с иными народами распалось, стали формироваться отдельные славянские этносы и языки. В изучении проблемы происхождения и ранней истории славян автор делает упор на междисциплинарный подход, канву же изложения образуют материалы археологии и истории.

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.