Происхождение и ранняя история славян - [3]
Показав несостоятельность основанной на русской летописи балканской теории славянского этногенеза, Л. Нидерле отмечает, что место формирования славян пока не может быть определено. В виде предположения высказывается, что древними славянами были невры, будины и скифы-пахари Геродота.
Весьма осторожно обрисовывает Л. Нидерле область славянского расселения в начале нашей эры. На востоке эта территория достигала верховьев Днепра и отдельных районов бассейна Дона, на севере подходила к Нареву и левым притокам Припяти, на западе — к Эльбе. Западную границу славянского ареала, замечает исследователь, возможно, придется передвинуть к Висле, если не будет доказана славянская принадлежность полей погребений лужицко-силезского типа.
В 1908 г. польский ботаник Ю. Ростафинский предпринял попытку выявить древнюю славянскую территорию на основе флористической лексики славянского языка.[9] Исследователь исходил из того, что название дерева бука не является исконно славянским, а названия граба, тиса и плюща — славянского происхождения. Следовательно, славянская прародина находилась вне ареала бука, но в пределах распространения растений со славянскими названиями. Такой областью, по мнению исследователя, были Припятское Полесье и Верхнее Поднепровье. Несмотря на то что ботаническая аргументация славянской прародины была встречена критически,[10] ей суждено было в течение нескольких десятилетий играть одну из важнейших ролей в локализации ранних славян.
Оригинальную теорию славянского этногенеза разработал А. А. Шахматов. Согласно представлениям этого исследователя в отдаленной древности восточные индоевропейцы занимали бассейн Балтийского моря. Часть их (предки индоиранцев и фракийцев) отсюда переселилась в более южные районы Европы, а в юго-восточной Прибалтике остались балто-славяне. В I тысячелетии до н. э. балто-славянское единство распалось, в результате чего образовались славяне и балты. Отсутствие в славянском языке собственного фитонима для бука и неславянский характер названий крупных рек Среднего Поднепровья и Повисленья исключают, по мнению А. А. Шахматова, эти территории из славянской прародины. Главным же в построении этого исследователя являются якобы существовавшие в древности контакты славян с кельтами и финнами. Славяне, по А. А. Шахматову, первоначально жили в низовьях Западной Двины и Немана, где соседили с балтами, германцами, кельтами и финнами. Во II в. н. э., когда германцы ушли из Повисленья, славяне продвинулись на запад, на территорию современной Польши, и оттуда уже позднее расселились в те области Европы, где они известны по средневековым источникам.[11] Эти построения А. А. Шахматова подверглись серьезной критике.[12]
В 20-х годах мысль о припятско-среднеднепровской прародине славян попытался аргументировать известный славист М. Фасмер.[13] Помимо ботанических доводов Ю. Ростафинского и данных сравнительно-исторического языкознания исследователь широко использовал материалы гидронимики. Анализ водных названий Западной Европы выявил древние ареалы кельтов, германцев, иллирийцев и фракийцев, После чего славянам не осталось здесь места. Поэтому славянскую прародину М. Фасмер локализовал в бассейне Припяти и среднего Днепра, где имеется несколько десятков рек со славянскими названиями. Прочие данные, по мнению этого исследователя, не мешают такой локализации, а наоборот, подкрепляют ее. М. Фасмер полагал, что на этой территории славянский язык выделился из балто-славянской общности и начал самостоятельное развитие. Общеславянский период он определял между 400 т. до н. э. и 400 г. н. э., а балто-славянскую общность — более ранним временем.
20–30-е годы характеризуются бурным развитием славистики в Польше. Много внимания уделяется проблеме происхождения и эволюции славян и их языка.
Почти все польские исследователи этого периода отстаивали западное происхождение славян, полагая, что их прародина находилась в междуречье Вислы и Одера (Одры). Мысль о западном происхождении славян зародилась еще в конце XVIII в., но до 20-х годов XX в. она оставалась неаргументированной. В период между Первой и Второй мировыми войнами польские и некоторые чешские археологи настойчиво стали связывать с ранними славянами лужицкую культуру, распространенную в период поздней бронзы и раннего железа в бассейнах Одера и Вислы и в верховьях Эльбы.[14]
Наибольшую роль в развитии концепции этногенеза славян от лужицких племен сыграл польский археолог Ю. Костшевский. По его представлениям в конце I тысячелетия до н. э. в области расселения лужицких племен распространяются носители поморской культуры, в результате чего в междуречье верхней Вислы и Эльбы формируется пше-ворская культура, связываемая с историческими венедами. Верхней хронологической границей пшеворской культуры Ю. Костшевский считал IV столетие, когда в результате великого переселения народов облик славянской культуры претерпел существенные изменения.
Эту позицию поддерживал и развивал тогдашний глава польской антропологии Я. Чекановский.[15] К тому времени работы по палеоботанике показали, что растения, на основе названий которых строились гипо-аезы о локализации ранних славян восточнее линии Калининград — Одесса, в древности имели иные ареалы, позволяющие включать междуречье Вислы и Одера в территорию славянской прародины. Придавая большое значение древним славяно-германским языковым взаимоотношениям, Я. Чекановский проводил западную границу ранних славян по Одеру.
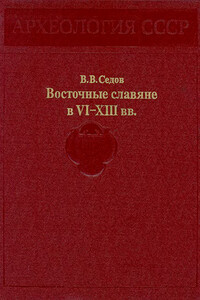
Книга посвящена историй восточных славян в начале средневековья по данным археологии. По материалу из курганов, поселений и других памятников исследуются все стороны культуры восточных славян накануне и в период сложения древнерусской государственности, вопросы формирования и расселения их племенных группировок, взаимоотношения с соседями — финно-угорским, балтским, иранским и тюркским населением. Рассматривается конкретная история каждой из племенных группировок восточных славян.
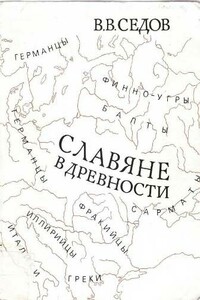
Книга посвящена проблеме становления славян и их ранней истории. Она охватывает период от II тысячелетия до н. э. по середину I тысячелетия н. э. В начале этого периода в Средней Европе существовала древнеевропейская общность, из которой образовались кельты, италики, иллирийцы, германцы и славяне. Завершается он «великим переселением народов». В течение указанного времени культура славян развивалась при взаимодействии с кельтами, германцами, скифо-сарматами и другими древними этносами, испытала влияние провинциально-римской цивилизации.
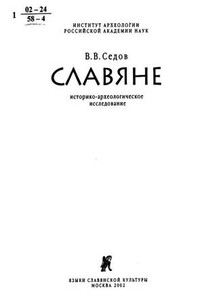
Β книге исследуется история славян того периода, когда они составляли этническое и языковое единство. Труд охватывает значительный промежуток времени — от I тысячелетия до н. э., когда славяне, выйдя из дренеевропейской общности, начали самостоятельный путь развития, до раннего средневековья включительно, когда славянское единство в условиях широкого расселения и метисации с иными народами распалось, стали формироваться отдельные славянские этносы и языки. В изучении проблемы происхождения и ранней истории славян автор делает упор на междисциплинарный подход, канву же изложения образуют материалы археологии и истории.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.