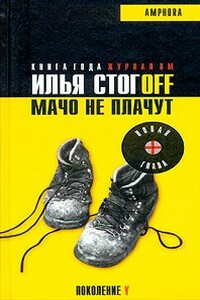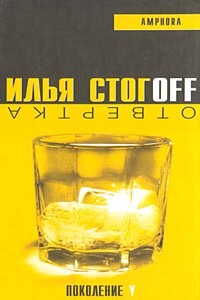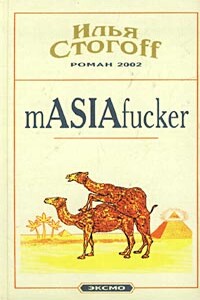Однако он не дошел. Едва свернув от подворья к проспекту, он столкнулся с тремя типчиками, намерения которых ясно читались на их испитых физиономиях. Картузы, тухлые взгляды из-под козырьков, прическа «свиной хвостик». Брюки, как и положено на заводских окраинах, заправлены в пижонские белые валенки.
Тот, что шел первым, посмотрел на священника и удивленно задрал брови:
– О! Куда это мы разбежались, а?
Шедший чуть сзади рассмеялся, обнажив гнилые передние зубы:
– Ух ты: поп! Хочешь в лоб?
Батюшка опустил глаза и попытался бочком проскочить мимо неприятной компании. Еще несколько лет назад подобное отношение к священнослужителю невозможно было себе и представить. Но теперь это было в порядке вещей. Такие уж пошли времена.
«Злотворно и жестоковыйно поколение, к которому ты послан», – успело промелькнуть в голове, и это была последняя внятная мысль, которую он успел додумать до конца.
Один из тех, кто преграждал ему дорогу, жестко и больно схватил его за бороду:
– Крест снимай!
– Как?.. Что вы?..
Он пытался вырваться, но чужая рука сжимала бороду так сильно, что из глаз сразу же брызнули слезы. Он хотел объяснить, что крест у него вовсе не золотой, а латунный, продать такой невозможно, да только трое нападавших уже повалили его на снег и безжалостными пальцами срывали распятие с шеи. Вывернувшись и задрав подбородок, он закричал, вернее, громко завыл, да только никто не бросился ему на помощь. Он хотел сказать им «Братие!», но не успел, потому что один из нападающих, вытащив из-за голенища валенка финский нож с тяжелой рукояткой, воткнул лезвие ему в горло.
(Какие белые у них лица… какие черные глаза…
Какой белый снег… какое черное небо…
Почему у них такие волчьи повадки?..
И почему все-таки город так пуст?..
Может, он совсем и не настоящий?)
Сорвав-таки у него с шеи крест и обшарив карманы, они бросились бежать в переулок. Никого не было в этот час на улице, никто не свистел и не кричал «Держи их!», но они все равно побежали. А он, спустя меньше чем минуту, умер, и его пустые глаза были устремлены в небо и еще немножко на угол большого серого здания, это небо от него заслонявшего.
3
Здание, на которое смотрели мертвые глаза молодого священника, было построено всего несколько лет назад. На первом этаже там имелась «Французская кондитерская купца Сучкова с сыновьями». Тот планировал торговать пышными булками, испеченными по европейским рецептам, да только быстро сполз к торговле все-таки водкой, потому что водка прибыль давала, а булки – почти нет. Публика туда теперь ходила такая, что окрестные жители стали называть заведение «Сукин и сын». Потом, с началом германской войны, водочную торговлю в столице запретили, и купец уехал в Европу, да так вместе с сыновьями там и пропал. Помещение булочной несколько лет простояло заколоченным.
Заново откроют его только лет через семь. Бывшая булочная превратится в рабочий клуб имени философа Фейербаха. По стенам, где когда-то висела реклама сучковских булок, развесят портреты бородатых иностранных марксистов. Власти будут планировать в клубе чтение лекций и открытие секций по интересам, да только из всех клубных мероприятий рабочих заинтересуют лишь танцы по вечерам с пятницы на субботу. На танцах станут играть два аккордеониста, одному из которых Фимка Грузчик как-то в драке выбьет глаз, чтобы тот, зараза, не пялился на грудастую хохотушку Любку с ситценабивной фабрики.
Еще через двадцать лет соседнее с клубом здание заденет немецким снарядом. Восемь коммунальных квартир (по две на каждом из четырех этажей) превратятся в груду щебня. Жители дома, которые пытались укрыться от обстрела в подвале, так там и останутся. Их тела извлекут наружу только через четыре года, уже после окончания войны, когда станут разбирать завалы. Газеты тогда опубликуют призыв к горожанам восстановить и достойно украсить город великого Ленина, и горожане как один выйдут на коммунистический субботник.
Рабочий клуб после этого решено будет заново не открывать. Вместо этого в помещении появится обычный кафетерий. Еще несколько лет спустя в кафетерии установят первые в городе венгерские кофейные аппараты. До этого под словом «кофе» в Ленинграде обычно имелась в виду цикориевая бурда пополам со сгущенным молоком. А теперь можно будет подойти к стойке, брякнуть в блюдце мелочью и сказать, как в иностранном кино:
– Маленький двойной, пожалуйста!
За этим модная молодежь станет приезжать в кафетерий даже из других районов. За маленьким двойным, маленьким тройным и даже (для особых ценителей) маленьким четверным. Хлопнув кофейку, длинноволосые мальчики со своими длинноволосыми девочками будут перебираться в садик во дворе дома и уж там заниматься черт знает чем. Читать друг другу стихи, пить портвейн, петь песни под гитару, целоваться, укрывшись в парадных, пытаться стащить со своих сопротивляющихся девочек тесные брючки, драться, спорить и иногда засыпать вечером пьяными на скамейках, а иногда отбывать в соседнее отделение милиции.
При Горбачеве кафе станет кооперативным, – одним из первых в городе. Теперь помимо кофе здесь будут подавать еще и жареное мясо. Пункт обмена валюты при кафе появится тоже одним из первых в городе, и одновременно с пунктом при кафе появится собственная небольшая саунка в подвале. Мыться там станут редко, зато тесные брючки стаскивать – уже безо всякого сопротивления. Дела у хозяев заведения пойдут в гору, и все будет отлично. До тех пор, пока кто-то жадный и злой не отрежет как-то директору кафе голову. Как установят милиционеры, сперва этот человек отрезал директору ухо, потом несколько пальцев на руках и ногах, а потом уже и голову. Оперативники найдут ее аккуратно запихнутой в директорский сейф, а тело не найдут вовсе и на этом основании возбуждать дело не станут.