Профили - [73]
После октябрьского переворота он вовсе не променял искусства на администрирование. Он ждал и работал потому, что было ради чего работать и ждать. То, что должно было созреть в Париже, собралось в Петрограде и прорвалось в Москве. Парижские работы вполне объясняли незавидную двойственность его тогдашнего положения. Понятно, почему аполлинеровцы общались с ним; но понятно также и то, почему он был вторичной фигурой. Эти пейзажи и фигуры, цветистые и ритмизованные, были всего только обещаниями ученика стать мастером. В отдельности в них было много обнадеживающего; в совокупности – в них было мало осуществленного. Штеренберг обнаруживал явное понимание цвета, – но он не знал, как это применить. Он наполнял свои холсты многоцветием и в то же время боялся решительных сопоставлений и противоположений. Он начинал пятиться назад и каким-то средним тоном объединял, заглаживал, притуплял все. Штеренберга влекло к контурному ритму, в нем проглядывал несомненный компонист, но едва он давал волю этой склонности, как уже начинал делать оговорки и поправки, так сказать, извинялся и приседал – прикрывался тем, что таково-де все это в натуре и он, Штеренберг, упаси боже, ничего не выдумал и не преувеличил. Его парижские опыты поэтому не столько многоцветны, сколько пестры, и не столько ритмичны, сколько загромождены. «Во что это выльется?» – спрашивали себя парижские судьи и должны были пожимать плечами: может быть, в запоздалое исповедание понт-авенской школы, в эпигонство у Гогена и Матисса; а может быть – в абстрактный декоративизм Леже и его присных. С таким художником все могло произойти.
Революция вмешалась вовремя, подоспела в самый нужный момент. Она разучила его извиняться. Он перестал приседать. Комиссарство воспитало в нем искусство приказа. Он выучился предписывать даже самому себе. Штеренберг-комиссар отдавал распоряжение Штеренбергу-живописцу: сделать и об исполнении донести. В конце концов, это было не так трудно; надо было лишь идти с товарищами в ногу. Если умели Александровскую колонну и Зимний дворец одевать к октябрьским торжествам в супрематические многоугольники и абстрактную разноцветность; если умели ставить на всех перекрестках памятники «революционерам политики, науки и искусства» из кубов, цилиндров и пирамид; если в театрах и клубах стены, занавесы и декорации покрывались кусками букв Советской Республики и обрывками рассеченных на части лозунгов и завитков, – что тогда значило в собственной живописи позволить полным голосом звучать любимому цвету и не держать на узде ритм контуров?
Штеренберг в самом деле решился развязать себя. Это не только значило стать художником, – это значило догнать опередивших. Изумившая нас определенность его живописи свидетельствовала, что у него есть все возможности сделать это. Из года в год, от выступления к выступлению, от выставки к выставке упорно и неуступчиво Штеренберг врастал в искусство. Он приступал к этому делу одиночкой – через несколько лет он был уже явлением. Он начинал среди отрицания – он вскоре стал обязательной частью художественной жизни. Это не глава школы, но это учитель многих. Во всяком случае, он самостоятелен. Существует штеренберговская марка в живописи. Существует его манера видеть и его способ передавать. Их узнаешь еще издали, сразу, без колебаний. Есть особое понятие: натюрморт Штеренберга. Это самое выразительное, что он умеет делать, и наиболее частое, над чем он работает. Были ландшафты и людские облики вначале; появилась природа и фигурные композиции сейчас; первые – робки не только художественной незрелостью, но и своей внутренней неуверенностью: не видно, нужно ли самому Штеренбергу то, что он изображает; последние – обещают новую полосу мотивов, но они все еще единичны: мы готовы с доверием ждать, но несогласны наперед уверовать. В промежутке же, на протяжении целого десятилетия 1918 – 1927, Штеренберг – это натюрморт.
Он очень прост. Это самая простая разновидность «живописи мертвой природы», какая существует в нашем искусстве. Здесь ее крайний край. Штеренберг упрощает формулу изображаемого и приемы изображения до конца. Они словно бы состоят из простейших элементов. Но характеризовать их трудно. Начинаешь чувствовать в себе штеренберговское косноязычие; сугубо вспоминаешь слова Мериме: «Notre langue, et aucune autre que je sache, ne peut décrire avec exactitude les qualités d’une œuvre d’art». Здесь почти те же трудности, какие представляет описание произведений абстрактной живописи: прямоугольники, треугольники, ромбы, квадраты, круги, овалы, сегменты, линии всех цветов и оттенков, всяческих сочетаний и соотношений, – что же дальше? – Дальше должна следовать или описательная топография их расположения (но на что она?), или же лирика, эмоциональный комментарий, отчет о чувствах, которые возбуждает эта живописная планиметрия.
Штеренберговский натюрморт в самом деле – незаконное дитя супрематизма. Это супрематизм, прорвавшийся в предметность. Человек есть обезьяний урод: так вещи Штеренберга – уроды абстрактивизма. Им бы ничего не изображать – просто занимать пространство своими протяжениями, границами и окрасками; а они тянутся в строй людского быта и жизненных отношений. Бывший отвлеченец становится вещником. В этом состоит развитие натюрмортизма у Штеренберга. Чем дальше назад, тем его предметы отвлеченнее, схематичнее, уподобленнее своим супрематическим прародителям; тем скорее они только повод для установления взаимодействий геометрических фигур в пространстве. Чем больше вперед, к нынешним годам, – тем они греховнее в своих изобразительных намерениях, забывчивее к вере праотцев и настойчивее в притязаниях быть не только формулами, но и портретами вещей и существ. Прежде мы видели: в прямоугольнике – треугольник, в треугольнике – круг, в круге – эллипсисы; лишь потом это постигалось как очертания стены, куска стола, тарелки и селедок. Теперь Штеренберг прежде всего показывает нам доски, утварь и пищу – и только после подчеркивает обобщенность их форм и схему их положений. Кто сказал «аз», дойдет до «ижицы», – реалистические стремления Штеренберга могут вывести его ныне так далеко, как он того пожелает: вся изобразительная сюжетность для него впредь открыта. Его последние попытки построить усложненную картину с человеческими фигурами, с отражением мотивов труда, даже с разнообразием людских типов отнюдь не обречены заранее на неуспех. Они не слишком свойственны его faculté-maîtresse, главенствующей страсти к «мертвой природе», но они достижимы. Во всяком случае, он и здесь не потеряет важнейшего, что отличает настоящего и созревшего мастера: единства формы и самостоятельности видения. Он выдержит в них давление формулы Аполлинера: «Le tableau doit présenter cette unité essentielle qui seule provoque l’extase».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Друзья отвезли рассказчика в Нормандию, в старинный город Онфлер, в гости к поэту и прозаику Грегуару Бренену, которого в Нормандии все зовут «Воробей» — по заглавию автобиографического романа.

Литературный портрет знаменитого норвежского писателя Юхана Боргена с точки зрения советского писателя.
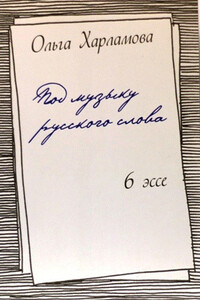
Эта книга о творческой личности, ее предназначении, ответственности за свою одаренность, о признании и забвении. Герои первых пяти эссе — знаковые фигуры своего времени, деятели отечественной истории и культуры, известные литераторы. Писатели и поэты оживут на страницах, заговорят с читателем собственным голосом, и сами расскажут о себе в контексте автора.В шестом, заключительном эссе-фэнтези, Ольга Харламова представила свою лирику, приглашая читателя взглянуть на всю Землю, как на территорию любви.