Профили - [62]
Утонченная генеалогия… За его спиной была всего-навсего лишь способность принимать окраску и вид окружающей среды. У Альтмана был дар мимикрии. Добрый жребий его состоял в том, что он был одарен ею до совершенства. Он окрасился Европой молниеносно и прочно. Попав из Одессы в Париж, бахур Натан Альтман стал сразу monsieur Nathan Altmann, миновав воздействие всероссийского Петербурга и всерусской Москвы. Он распоряжался своим европеизмом просто и свободно. В Петербург он прибыл даже в поношенно-европейском виде, словно Европа была его исконной родиной, а к русским берегам его прибил какой-то роковой и странный случай, как некогда Тома де Томона в изображении Ф. Ф. Вигеля.
На русские влияния он как будто не реагировал. Его можно было стирать и мыть в десяти российских водах, – он выходил из них таким же бесшумным, блистающим и холодным. В этом была причина его успеха и значительности. Его живопись была европейской складки. В ней было то, что являлось предметом всегдашней тоски русских художников, чьи национальные влечения возникают не столько от ощущения себя русским, сколько от противоположения себя европейцу: своеобразный национализм от обратного – национализм au rebours.
Петербург мог особенно оценить европеизм Альтмана; Петербург его оценил. Альтман попал еще в полосу гегемонии «Мира искусства», которая, правда, быстро заканчивалась, но еще не закончилась. Старики «Мира искусства» еще считались аккредитованными европейцами при русской художественной культуре; европеизм был их главным коньком. С появлением Альтмана они стали казаться старомодными и смешноватыми. Достаточно было посмотреть и посравнить, чтоб сразу же почувствовать разницу между ними, отечественными барами, англоманами и галломанами русского финала XIX века, старающимися так же поставить на европейский лад свое искусство, как в финале века XVIII их прадеды свою речь, жилеты и сады, – и этим Натаном Альтманом, прибывшим из Парижа европейски отшлифованным насквозь и поверху. Альтман принес к нам новое понятие о том, что значит быть европейцем в русском искусстве. Он стал первым, можно сказать, образцовым представителем этой разновидности. У него можно найти какие угодно недостатки и достоинства, но среди них нет одного исконно русского и типично русского: провинциализма – милого и ужасного провинциализма нашего искусства, трогательного и невыносимого, свежего и утомительного, которому мы все так радовались и который мы все так бранили.
Как часто русские критики, опытные и неопытные любители чужих краев, спрашивали с тоской: где русская живопись, которую можно послать в Европу с уверенностью, что там не спросят: «Это, вероятно, из России?» – тем тоном, каким мы спрашиваем провинциала: «Вы из какой губернии?» О, если дело идет только об этом, то вот Альтман – вот, наконец, Альтман, теперь можно послать всего Альтмана, и ни один тончайший француз не сделает предупредительно наивного лица и не заговорит, как бы мимоходом, о «нерастраченных силах провинциальных культур». Другой вопрос, заговорит ли он вообще о чем-либо перед Альтманом… но это уже вопрос о размерах альтмановского дарования, а не о виде его.
6
Альтман – математик искусства, а не поэт. Если у него есть вдохновение, это – вдохновение вычисления, а не одержимости. «Поэзия, прости господи, должна быть глуповата…» – но этой пушкинской мерки к нему никак не приложишь. Альтман удручающе умен, или радующе умен, смотря по вкусам, – он умен всегда. Точно так же он удручающе удачлив или радующе удачлив, – но всегда удачлив.
Чего хотели бы мы другого? О, разумеется, ничего: Альтман такой законченный и превосходный художник, что упрека не навертывается на язык. Но почему-то невольно и бессмысленно вздыхается: «ах, если бы…» Конца у этого «ах, если бы», конечно, нет, ибо его нет в самом деле. Вероятно, так вздыхать можем только мы, россияне; нам просто трудно в этой атмосфере западного чекана и холода: «Point de contraintes fausses! Mais que pour marcher droit-tu chausses, Muse, un cothurne étroit…» Мы тайно замираем от робости перед этим требованием Теофиля Готье. Мы говорим: «Конечно, конечно, так только и должно ходить искусство, но… у нас такие старые мозоли и такая старая привычка к мягкой, широкой и теплой обуви; ведь валенки – наша национальная обувь». Я даже думаю, что, если бы нам не было очень стыдно перед Европой, мы бы Русскую Музу всегда водили в валенках. И вот мы почтительно стоим перед строгим обликом альтмановского искусства, но мы вздыхаем…
Нам трудно понять, что Альтман никогда ничего не терял, что он не знает случайных движений и жестов, что, когда он проводит черту углем или мазок кистью, он их делает наверняка, что он их делает только наверняка. Недаром его называют художником без черновиков.
Организованность его художественной воли изумительна. Это не художник, а «делец искусства» с мертвой хваткой, не знающий неудачных комбинаций и остающийся в выигрыше при всяком положении.
Написать картину – значит для него решить уравнение, в котором все части ему ясны. Он должен наперед знать результаты. У него всегда есть или точный расчет, или же нет ничего. Неожиданность – его худший враг. Он не терпит порывов. Он не знает, что значит творческая бессонница. Моцартовское «Вчера меня бессонница томила» есть для него только старинный курьез. В душевном споре Моцарта и Сальери он на стороне Сальери уже потому, что он на стороне самого себя. «Музыку я разъял, как труп» – вот что ему понятно и знакомо до тончайшей тонкости.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Друзья отвезли рассказчика в Нормандию, в старинный город Онфлер, в гости к поэту и прозаику Грегуару Бренену, которого в Нормандии все зовут «Воробей» — по заглавию автобиографического романа.

Литературный портрет знаменитого норвежского писателя Юхана Боргена с точки зрения советского писателя.
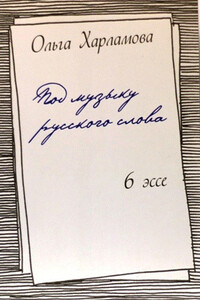
Эта книга о творческой личности, ее предназначении, ответственности за свою одаренность, о признании и забвении. Герои первых пяти эссе — знаковые фигуры своего времени, деятели отечественной истории и культуры, известные литераторы. Писатели и поэты оживут на страницах, заговорят с читателем собственным голосом, и сами расскажут о себе в контексте автора.В шестом, заключительном эссе-фэнтези, Ольга Харламова представила свою лирику, приглашая читателя взглянуть на всю Землю, как на территорию любви.