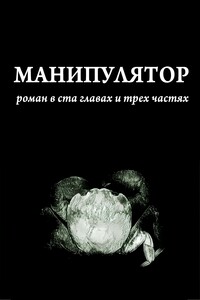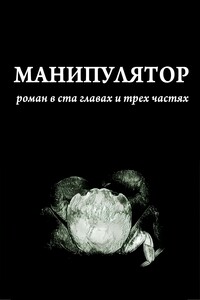В школьные годы Сева с друзьями любили ездить к двадцатиэтажному дому-свечке на улице Калиновского: поднимались на лифте на двадцатый этаж и выходили на маленькую лоджию общего пользования, откуда, глядя на густой сосновый лес, напоминавший махровое полотенце, простиравшееся до самого горизонта, плевали вниз и бросали скомканные бумажки. Мечтой Севы тогда было нарисовать подробный план этого леса со всеми его дорогами, выступами и перепадами высот, населив его людьми и наполнив маршрутами городского транспорта. Когда через десять лет он приехал сюда и поднялся на двадцатый этаж, знакомые ориентиры — линия электропередачи, спортивный комплекс, странная труба посреди леса — улыбнулись ему, как старые бабушкины украшения, блеснувшие в пыльной шкатулке. Лоджия была расписана неумелыми граффити, от мусоропровода несло помойкой, и над всем этим нависал невыносимый июльский зной, не сходивший даже с наступлением вечера. Две или три минуты Сева неподвижно смотрел куда- то перед собой, наконец быстрым движением перекинул ногу через перила, потом — другую и, стоя на выступе с внешней стороны балконной ограды, зажмурился. Жизнь его, со всем, что могло в ней быть ценного и стоившего того, чтобы жить, не звала его и сейчас, но в самом молчании ее была какая- то недосказанность, какая-то запрограммированная несправедливость бытия, обдумывание, а может быть, и исправление которой хотелось перенести на потом. Но на когда — на потом? Он поочередно отрывал от перил то одну, то другую руку, ненадолго замирал, удерживая себя мизинцем, два или три раза считал до десяти, наконец открыл глаза и, аккуратно переставив ноги внутрь лоджии, тяжелым шагом пленного отправился жить.