Привенчанная цесаревна. Анна Петровна - [3]
— Не было? Ан было. Порешили на свой способ. Стали к венцу убирать, волосы в косе так затянули, что в глазах у девицы потемнело, сознания лишилась. А прабабка рада-радёшенька. Мол, порченую девку подсунули. Марью из дворца. Всю семью в ссылку в Сибирь. А деду иную девицу по их расчёту подсунули: царь — значит, наследников иметь должен. Смирился бедолага. А Марью всю жизнь помнил. Семейство из ссылки вернул. Должности всем нашёл. Её оправдал. Да прок какой! Счастье-то мимо прошло.
— О чём поговорить со мной хочешь, государь? Вижу, тяжко у тебя на сердце. Это в твои-то молодые годы! Скажи, что душу гнетёт, глядишь, вдвоём и разберёмся.
— Да уж, владыко, коли говорить, только с тобой. Никогда не забуду, как кир Иоаким перед кончиной собрал на собор всё московское духовенство и архиереев, чтобы торжественно «папёжников» осудить.
— Сборник кир Иоаким собирался издать в опровержение латынян. «Остен» его назвал. Не успел. Скончался.
— А в завещании нам с Иоанном Алексеевичем предписал иноземцев сторониться. Ни в чём им на русской земле ходу не давать. Не брату завещал — мне. Мне одному!
— Что покойников тревожить, государь. Ты за державу в ответе, тебе и решать, что лучше.
— Неужто его бы слушать стал. Да вот Иоанн...
— А государь Иоанн Алексеевич чем тебе помеха? Плох он со здоровьем, совсем плох. Вон как в молодые-то годы одряхлел. Видит еле-еле. Да тут ещё паралич прихватил. Ещё в прошлом году, государь, тебе о том толковал.
— Может, и одряхлел на вид, да дело своё мужское, гляди, как справляет. Прошлым годом царица Прасковья Фёдоровна царевну Анну Иоанновну принесла, в этом — царевной Прасковьей Иоанновной подарила. Екатерине Иоанновне уже четвёртый годок пошёл. Глядишь, и до сынка дело дойдёт.
— Всё равно моложе царевича Алексея Петровича окажется.
— Моложе... Вот из-за того покойная родительница и заторопилась меня женить, камень на шею навязала. Думай теперь, как жить. Глаза б мои её, постылую, не видели.
— Грешишь, государь, грешишь! Чтоб так о супруге богоданной, перед святым алтарём венчанной! Смириться бы тебе, государь, получше к царице Евдокии Фёдоровне присмотреться. Ну, другая показалась, ну, побаловался маленько — кто Богу не грешен, царю не виноват, так ведь это проходит, государь, верь, проходит.
— У меня не пройдёт! И слов на меня не трать, владыко. Знаю, иначе говорить тебе сан твой не позволяет, а ты по-человечески на дело взгляни. Оженили меня, когда ещё и к девкам-то не тянуло. Выбора сделать не дали — хоть на первый взгляд, словом перемолвиться не успели. Да оно и слава Богу, потому что никаких слов у Евдокии Фёдоровны отродясь не водилось. Окромя пуховой постели да сытного стола, знать ничего не хочет. Чуть что в слёзы. Чего ревёт, чего хочет, сама сказать не может. Скажешь, владыко, все теремные девицы у нас такие? А как же царица Прасковья Фёдоровна? И обиход знает, и словечко ввернуть в беседе сумеет, и во всяком разговоре, хоть самой сказать нечего, сидит слушает. Знала сестрица Софья Алексеевна, какая поддержка братцу её, головкой слабому, нужна. И здесь не промахнулась!
— Твоя правда, государь, всем царица Прасковья Фёдоровна взяла. И красотой ни с кем не поделилась.
— Что уж там! Так и говорят, первая красавица. И с царевной Софьей, умница, не дружилась, Так-то ловко от лишних встреч увёртывалась. Всё в сторонке держалась. Будто в правительницу не слишком верила.
— И так быть могло. Или не по душе ей правительница пришлась. Говаривали, будто царевна Софья от невестки всё наследника добивалась, а та и забеременеть не могла, даром что Иоанн Алексеевич куда моложе был.
— Скажи, владыко, пока Василий Юшков их царским хозяйством не занялся. С 1684-го года супруги без деток жили, а с 1691-го, как Юшков пришёл, за дело принялись.
— Юшкова убрать хочешь, государь?
— Пока нет. Чего зря невестку обижать. Хотя с сыночком дело может выйти непростое. И всё равно, владыко, не тем голова занята. С тобой посоветоваться хотел. Надобно смотр новым войскам произвести. Потешным, как в народе их звать стали. Поглядеть в деле, они ли, стрельцы ли лучше. Войско готовить. Только смотр необычный, а вроде бы сражение промеж них. Там всё и прояснится.
— Сражение, государь? И где же? А людишкам ли беды какой от того не будет?
— Место выбрал под Кожуховом. Время — с половины сентября, как все работы полевые кончатся. А людишки — Бог милостив, много не сгинет. Понарошку ведь биться будем, так что если только случаем кого пришибёт, заденет.
— Тебе, государь, виднее. Коли нужно моё благословение, даю его с лёгким сердцем.
— И ещё, владыко, надобно мне собрать как можно больше ратных. Больно много народу на местах засиделось — о деле военном начисто забыли. Так вот хочу собрать подьячих всех приказов для обучения ратному делу — конных с пистолетами, пеших с мушкетами. Помещиков тоже из двадцати двух городов.
— Широко размахнулся, государь, широко. Господь тебе в помочь. Себя, Пётр Алексеевич, береги. А насчёт приказного семени доняли они меня, куда как доняли.
— Это что окна твоих покоев на Ивановскую площадь выходят? Гляжу, и через притворенные оконца гул стоит.
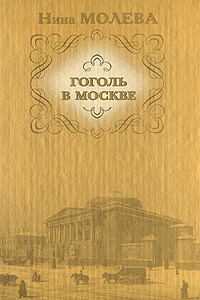
Гоголь дал зарок, что приедет в Москву только будучи знаменитым. Так и случилось. Эта странная, мистическая любовь писателя и города продолжалась до самой смерти Николая Васильевича. Но как мало мы знаем о Москве Гоголя, о людях, с которыми он здесь встречался, о местах, где любил прогуливаться... О том, как его боготворила московская публика, которая несла гроб с телом семь верст на своих плечах до университетской церкви, где его будут отпевать. И о единственной женщине, по-настоящему любившей Гоголя, о женщине, которая так и не смогла пережить смерть великого русского писателя.
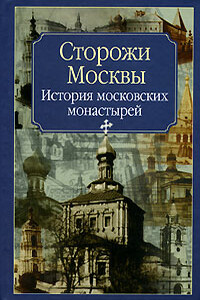
Сторожи – древнее название монастырей, что стояли на охране земель Руси. Сторожа – это не только средоточение веры, но и оплот средневекового образования, организатор торговли и ремесел.О двадцати четырех монастырях Москвы, одни из которых безвозвратно утеряны, а другие стоят и поныне – новая книга историка и искусствоведа, известного писателя Нины Молевой.
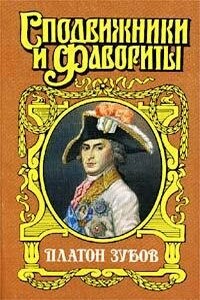
Новый роман известной писательницы-историка Нины Молевой рассказывает о жизни «последнего фаворита» императрицы Екатерины II П. А. Зубова (1767–1822).
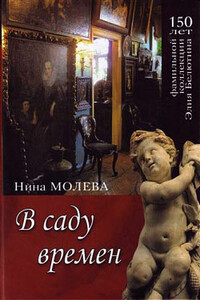
Эта книга необычна во всем. В ней совмещены научно-аргументированный каталог, биографии художников и живая история считающейся одной из лучших в Европе частных коллекций искусства XV–XVII веков, дополненной разделами Древнего Египта, Древнего Китая, Греции и Рима. В ткань повествования входят литературные портреты искусствоведов, реставраторов, художников, архитекторов, писателей, общавшихся с собранием на протяжении 150-летней истории.Заложенная в 1860-х годах художником Конторы императорских театров антрепренером И.Е.Гриневым, коллекция и по сей день пополняется его внуком – живописцем русского авангарда Элием Белютиным.
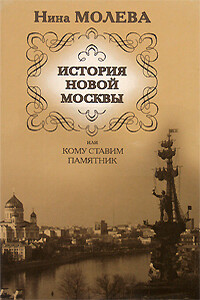
Петр I Зураба Церетели, скандальный памятник «Дети – жертвы пороков взрослых» Михаила Шемякина, «отдыхающий» Шаляпин… Москва меняется каждую минуту. Появляются новые памятники, захватывающие лучшие и ответственнейшие точки Москвы. Решение об их установке принимает Комиссия по монументальному искусству, членом которой является автор книги искусствовед и историк Нина Молева. Количество предложений, поступающих в Комиссию, таково, что Москва вполне могла бы рассчитывать ежегодно на установку 50 памятников.
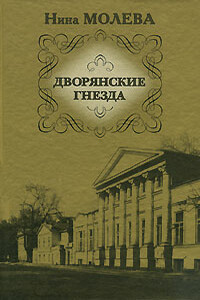
Дворянские гнезда – их, кажется, невозможно себе представить в современном бурлящем жизнью мегаполисе. Уют небольших, каждая на свой вкус обставленных комнат. Дружеские беседы за чайным столом. Тепло семейных вечеров, согретых человеческими чувствами – не страстями очередных телесериалов. Музицирование – собственное (без музыкальных колонок!). Ночи за книгами, не перелистанными – пережитыми. Конечно же, время для них прошло, но… Но не прошла наша потребность во всем том, что формировало тонкий и пронзительный искренний мир наших предшественников.
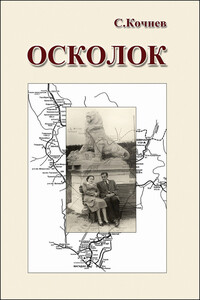
Тяжкие испытания выпали на долю героев повести, но такой насыщенной грандиозными событиями жизни можно только позавидовать.Василий, родившийся в пригороде тихого Чернигова перед Первой мировой, знать не знал, что успеет и царя-батюшку повидать, и на «золотом троне» с батькой Махно посидеть. Никогда и в голову не могло ему прийти, что будет он по навету арестован как враг народа и член банды, терроризировавшей многострадальное мирное население. Будет осужден балаганным судом и поедет на многие годы «осваивать» колымские просторы.
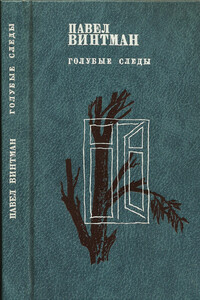
В книгу русского поэта Павла Винтмана (1918–1942), жизнь которого оборвала война, вошли стихотворения, свидетельствующие о его активной гражданской позиции, мужественные и драматические, нередко преисполненные предчувствием гибели, а также письма с войны и воспоминания о поэте.
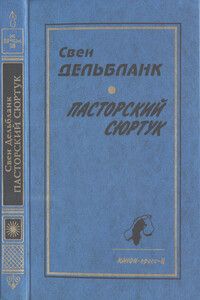
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга представляет собой философскую драму с элементами романтизма. Автор раскрывает нравственно-психологические отношения двух поколений на примере трагической судьбы отца – японского пленного офицера-самурая и его родного русского любимого сына. Интересны их глубокомысленные размышления о событиях, происходящих вокруг. Несмотря на весь трагизм, страдания и боль, выпавшие на долю отца, ему удалось сохранить рассудок, честь, благородство души и благодарное отношение ко всякому событию в жизни.Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся философией жизни и стремящихся к пониманию скрытой сути событий.
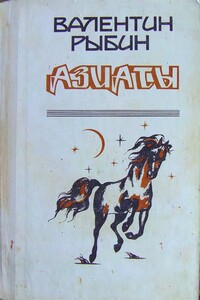
В основе романа народного писателя Туркменистана — жизнь ставропольских туркмен в XVIII веке, их служение Российскому государству.Главный герой романа Арслан — сын туркменского хана Берека — тесно связан с Астраханским губернатором. По приказу императрицы Анны Иоановны он отправляется в Туркмению за ахалтекинскими конями. Однако в пределы Туркмении вторгаются полчища Надир-шаха и гонец императрицы оказывается в сложнейшем положении.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.