Пристрастие к некрасивым женщинам - [6]
В тот день, дыша кисловатым и резким апрельским воздухом, а над озером кружил коршун, я понял, что мне дано видеть одновременно день и ночь и что ночь по-своему красива, часто восхитительна. И что день тоже может быть пасмурным, не зависящим от перемен тени и света. Что уродство само по себе не существует, а красота может сопровождаться одиночеством намного худшим, если она дана такому человеку, как Люси Пьяль. Что в ее случае красота бесполезна, поскольку она закована в лед невинности, в то время как уродство старого Антауна Пуарье – гримасничающее проявление жизни. Уродство и красота неразрывно связаны между собой. И если нам не дано решать, какими мы станем, мы все-таки должны выбирать, к какому лагерю примкнуть. Открыв для себя, кто я такой, я выбрал лагерь красоты: не той, что можно назвать противоположностью уродства, а неуловимой, робкой красоты, возникающей из самой уродливости и совершающей чудо, то есть невозможное.
Урок, который преподала мне сестра, был слишком наглядным, чтобы убедить и, главное, утешить меня. Ничто уже не могло отвлечь меня от сознания собственного уродства, это я понял в восемь лет. И я начал резко проваливаться во времени наподобие скал, отламывающихся от крутого берега реки Везер по ту сторону озера у подножия горы Вейкс.
Мы отправились домой. Я плакал. Я улыбался. Я шел опустив голову. Сестра сказала, что если я буду плакать, то рискую превратиться в статую из соли. Она не обняла меня – ни она, ни мать, ни кто-либо еще в то время и спустя еще много лет этого не делал, – нет, она взяла меня за руку. Эта ладонь была единственной частью ее тела, к которой мне было разрешено прикасаться. Я мог только улыбаться. Я сказал, что улыбка сквозь слезы, должно быть, придавала мне самый глупый вид на земле. Я подумал, что лучше быть уродливым, чем казаться глупым. Но Элиана меня не слушала и спросила с внезапно посерьезневшим лицом, повернутым в сторону заката:
«А какая, по-твоему, я?»
Да разве я до того дня смотрел на сестру, на мать, на девчонок в школе Сьома или на любое другое создание женского пола с мыслью оценить, красивы ли они? Язык мой прилип к небу, конечности налились тяжестью, лицо покраснело. Но не оттого, что я не мог ничего ответить, а оттого, что не нашел ничего красивого в этой девушке, моей сестре, которую я едва смел называть по имени, стараясь в большинстве случаев обходиться без этого. Я не смел говорить себе, что она не красавица, но это было в моих мыслях и казалось еще отвратительнее, чем мое собственное уродство. Эта мысль была такой же легкой, как укол шипом или царапина от ежевики: сначала ты ничего не чувствуешь из-за холода или напряжения, но потом постепенно боль проявляется. И это удивительное страдание можно было бы назвать приятным, если бы оно не разрасталось в более резкую боль. И тогда царапина привлекает к себе все наше внимание, подобно тому как в ревности людей мучает какая-нибудь деталь, которую они сначала отбросили пожатием плеча, настолько она смешна, невероятна. Но эта деталь затем побеждает все разумные доводы защиты, причиняя самые жестокие боли, какие только может вынести сердце.
До тех пор я и в мыслях не считал ее отличной от себя. Повторю: у нее не было лица. Этот вопрос испугал меня, потому что не только заставил оценить ее и выделить себя из семьи, чтобы начать вести независимую жизнь, как мне тогда подумалось. Но и потому, что я с ужасом и стыдом понял: мое уродство касалось и Элианы. Я ведь помнил, как многие отмечали наше сходство. Отсутствие красоты вызвало во мне, продолжавшем молчать, такой же испуг, какой за несколько часов до этого проявился в глазах матери. У глаз этой восемнадцатилетней девушки я увидел морщину, которой у меня еще не было. Она дала мне надежду, что черты моего лица изменятся. Ведь я уже не верил в это, смирившись, что навсегда останусь уродом, и страдал оттого, что мы с сестрой были людьми некрасивыми. Именно этим объяснялось, почему наша мать, чье лицо и фигуру в Сьоме находили приятными и ее можно было назвать красавицей, если бы не ее худоба, нас не любила. Возможно, ее отвращала не столько наша уродливость, сколько сходство с мужчиной, который нас бросил, и ужасное сожаление, что любовь не сотворила смешения того красивого от каждого из них, а произвела на свет детей, унаследовавших самое неудачное. Или красота сработала только на вычитание: это действие с обратным знаком позволяет уродливым людям надеяться, что у них могут появиться красивые дети или последующее потомство, возможно, через поколение или два, в зависимости от того, как будет работать кровь. Это называется капризом судьбы, которому ни сестра, ни я не захотели подчиниться при зачатии.
Я меньше страдал от своей уродливости, чем от неведомого будущего. С этого утра мне казалось, что мое уродство будет видно всем. И будь я на чердаке или в самом темном углу погреба, мое лицо отныне будет предметом всеобщего посмешища (как сказал один приехавший в Сьом на каникулы парижанин, блондин, каких редко можно встретить на этих нагорьях, должны быть красивые люди и некрасивые, такова жизнь, и с этим надо смириться). И никогда больше моя внешность не вызовет доброго расположения, с каким обычно относятся к детишкам. Однако от этого я страдал меньше, чем от мысли, что моя сестра была уродлива, как и я. И у меня не было больше других забот, как убедить ее в том, что она не такая. Я брал на себя ее уродство, чтобы сделать эту девушку если не красивой, то, по крайней мере, не уродливой.

Райан, герой романа американского писателя Уолтера Керна «Мне бы в небо» по долгу службы все свое время проводит в самолетах. Его работа заключается в том, чтобы увольнять служащих корпораций, чье начальство не желает брать на себя эту неприятную задачу. Ему нравится жить между небом и землей, не имея ни привязанностей, ни обязательств, ни личной жизни. При этом Райан и сам намерен сменить работу, как только наберет миллион бонусных миль в авиакомпании, которой он пользуется. Но за несколько дней, предшествующих торжественному моменту, жизнь его внезапно меняется…В 2009 году роман экранизирован Джейсоном Рейтманом («Здесь курят», «Джуно»), в главной роли — Джордж Клуни.

Елена Чарник – поэт, эссеист. Родилась в Полтаве, окончила Харьковский государственный университет по специальности “русская филология”.Живет в Петербурге. Печаталась в журналах “Новый мир”, “Урал”.
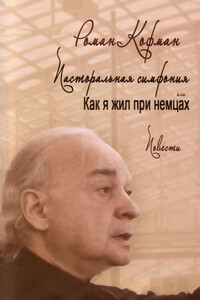
«Меня не покидает странное предчувствие. Кончиками нервов, кожей и еще чем-то неведомым я ощущаю приближение новой жизни. И даже не новой, а просто жизни — потому что все, что случилось до мгновений, когда я пишу эти строки, было иллюзией, миражом, этюдом, написанным невидимыми красками. А жизнь настоящая, во плоти и в достоинстве, вот-вот начнется......Это предчувствие поселилось во мне давно, и в ожидании новой жизни я спешил запечатлеть, как умею, все, что было. А может быть, и не было».Роман Кофман«Роман Кофман — действительно один из лучших в мире дирижеров-интерпретаторов»«Телеграф», ВеликобританияВ этой книге представлены две повести Романа Кофмана — поэта, писателя, дирижера, скрипача, композитора, режиссера и педагога.

Счастье – вещь ненадежная, преходящая. Жители шотландского городка и не стремятся к нему. Да и недосуг им замечать отсутствие счастья. Дел по горло. Уютно светятся в вечернем сумраке окна, вьется дымок из труб. Но загляните в эти окна, и увидите, что здешняя жизнь совсем не так благостна, как кажется со стороны. Своя доля печалей осеняет каждую старинную улочку и каждый дом. И каждого жителя. И в одном из этих домов, в кабинете абрикосового цвета, сидит Аня, консультант по вопросам семьи и брака. Будто священник, поджидающий прихожан в темноте исповедальни… И однажды приходят к ней Роза и Гарри, не способные жить друг без друга и опостылевшие друг дружке до смерти.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Неуловимое течение времени… Молодость, дружба, музыка, кино, поцелуи, любовь… — все вибрирует Beatles. Магия иностранного языка, гениальное место — Кембридж… Иллюзии влюбленного Криса, что все это никогда не забудет, он хочет верить в абсолютную страсть.С легкой улыбкой автор рассказывает нам о сладких и горьких потерях при вступлении во взрослую жизнь. Моменты вечности и волнения смешиваются с тоской, непринужденной грацией… и музыкой языка.
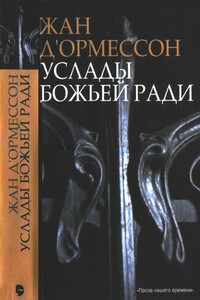
Жан Лефевр д’Ормессон (р. 1922) — великолепный французский писатель, член Французской академии, доктор философии. Классик XX века. Его произведения вошли в анналы мировой литературы.В романе «Услады Божьей ради», впервые переведенном на русский язык, автор с мягкой иронией рассказывает историю своей знаменитой аристократической семьи, об их многовековых семейных традициях, представлениях о чести и любви, столкновениях с новой реальностью.

Олега Зайончковского называют одним из самых оригинальных современных русских прозаиков. Его романы «Петрович», «Сергеев и городок», «Счастье возможно», «Загул» вошли в шорт-листы престижных литературных премий: «Русский Букер», «Большая книга» и «Национальный бестселлер».Герой романа «Тимошина проза» – офисный служащий на исходе каких-либо карьерных шансов. Его страсть – литература, он хочет стать писателем. Именно это занимает все его мысли, и еще он надеется встретить «женщину своей мечты». И встречает.

Прозаик Игорь Сахновский – автор романов «Насущные нужды умерших», «Человек, который знал всё» (награжден премией Б. Стругацкого «Бронзовая улитка», в 2008 году экранизирован) и «Заговор ангелов», сборников рассказов «Счастливцы и безумцы» (премия «Русский Декамерон») и «Острое чувство субботы».«Свобода по умолчанию» – роман о любви и о внутренней свободе «частного» человека, волею случая вовлечённого в политический абсурд. Тончайшая, почти невидимая грань отделяет жизнь скромного, невезучего служащего Турбанова от мира власть имущих, бедность – от огромных денег, законопослушность – от преступления, праздник – от конца света.