Приключения сомнамбулы. Том 1 - [7]
Итак, не забывая про стратегический обходной манёвр, мы понимаем, конечно, что ураган – или, если угодно, пожар – раздвоились. Пусть и не строго пополам, куда там, но всё же. Итак, кроме стихийного выброса слухов, вроде бы самопроизвольно зародившихся на невзрачном месте события, вырвавшихся из него и привередливо отвернувшихся затем от восхитительных центральных ансамблей, не побоимся повторить, что какая-никакая стихия разбушевалась ещё и под задымленными сводами ампирного дома на Мойке. Этому, с позволения сказать, служебному бедствию, попросту говоря, испуганно-злорадной трепатне в рабочее время не дано было соперничать с напором слухов, ибо служивые обитатели ампирного дома хотя бы в силу своих профессиональных устремлений пытались опереться на разлагающие легенду факты. Но… вот оно, но! Век факта – мгновение, а яркие легенды, как кавказские долгожители. И, наверное, всякое ухо – не только обывательское, но и, хочешь-не-хочешь, профессиональное – ловит свою легенду. Итог: две стихии бушевали одновременно и – без всяких сшибок – чудесно ускоряли одна другую. Действительно, скупые сведения о происшедшем, в меру искажённые курильщиками на лестничной площадке у доски почёта и бюста, всё же вырывались наружу, раздувались – худо-бедно информированные специалисты, шагнув с лестницы в мокрые сумерки, превращались в обычных горожан, многие ведь из них жили у чёрта на куличках, где скоростной напор слухов играючи бил рекорды, когда-либо зафиксированные дотошной, но слишком уж много на себя берущей социологией. Да-да, в магазинах, метро служивые архитекторы ли, конструкторы могли при желании включиться в ломающий цеховые перегородки обмен скандальными новостями и даже что-нибудь заковыристое растолковать, на что-то затемнённое пролить свет, открыть кому-то глаза. Но они так не поступали. Нацепив маски горожан, они сами волей-неволей заглатывали приманку легенды, бодрящей массы, и вместе со всеми мучились сладостным варевом ужасов, спасающих от повседневной скуки. Ко всему они, особенно самые осведомлённые из них – Соснин? Да, и он тоже – чувствовали, что рациональные объяснения чудесного – хоть и с отрицательным знаком, хоть и ужасного, но при этом, несомненно, чудесного, проигнорировавшего многократные запасы прочности обрушения, были бы крайне неубедительны, им бы, объяснениям этим, всё равно не поверили. И правильно сделали бы! – добавим мы от себя. Разве щеголяя научно-технической галиматьёй, которая им заменяет язык, самые осведомлённые специалисты не заблуждаются, полагая, что дарят нам истину, а не облепившую её шелуху из заумных формул? Правда, когда такое творится, кому интересно было бы слушать про допустимый эксцентриситет, эпюру крутящих усилий, марку бетона?
Никому, никому. И нам с вами тоже, само собой, сухие рассуждения давно надоели. Ничего по сути не разъяснив, никуда нас не продвинув, с три короба наобещав, но так и не дав сколько-нибудь стоящих страниц прозы, они уже крутятся вхолостую…
Не пора ли нам перевернуть пластинку?
Перевернём, но сначала мы…
Нам, нас, мы – что за множественные местоимения? Кто это – мы?
Мы – это автор и его персонаж, Соснин, герой-соавтор. Что у автора на уме, то у героя-соавтора на языке… или – наоборот, что у него на уме, то… мы-оба пишем, наши сдвоенные сознания закольцованы; мы – нераздели-мы.
Автор – существо сомнительное, ускользающе-таинственное.
Теряя чувство реальности или, напротив, обретая его, автор рождается в миг, когда касается бумаги пером или клавиши с буквой пальцем, затем, по возвращении в быт, умирает… каково ему испытывать многократные рождения и умирания, каждый раз при рождении ли, умирании изменяясь, но чудесно оставаясь самим собой? И каков он, хотелось бы спросить, испытывающий маяту непрерывной метаморфозы? И можно ли в авторе уловить хоть какое-то сходство с человеком, чьё имя гордо напечатано на обложке?
Впрочем, при всей специфике авторской маяты, незаметно оставляющей на авторе и в авторе свою мету, всякое «я», включая подчас неотличимые «я»-автора и «я»-персонажа, отживает по ходу времени; неожиданно оглядываясь на себя-прошлого, «я» не узнаёт себя, отчуждается и растерянно кивает автору, когда тот, намаявшись, произносит с чувством облегчения: «он». И то правда, «я» раздрабливается… размножается. Но ватага не узнающих друг друга «я» – это, конечно, «он»! А в сбивчивых диалогах с самим собой, в путаных внутренних диалогических монологах каждое из «я», как если бы глаза посмотрели в глаза, как в зеркало, своего второго «я», молвит смущённо: «ты»… второе лицо, которое обретает в диалоге второе «я», лишь отражает первое, они равно недолговечны.
Зато «он» – это не только я-вчерашний или попросту я-изменившийся, на которого не без удивления нацелен мысленный взор я-сегодняшнего, сиюминутного; это лицо многомерное и – в перспективах прозы – многофункциональное: «он» объективирует описываемые события, символизирует опосредованный захват высказыванием пространства и времени… «он» не боится длительности.

Когда ему делалось не по себе, когда беспричинно накатывало отчаяние, он доставал большой конверт со старыми фотографиями, но одну, самую старую, вероятно, первую из запечатлевших его – с неровными краями, с тускло-сереньким, будто бы размазанным пальцем грифельным изображением, – рассматривал с особой пристальностью и, бывало, испытывал необъяснимое облегчение: из тумана проступали пухлый сугроб, накрытый еловой лапой, и он, четырёхлетний, в коротком пальтеце с кушаком, в башлыке, с деревянной лопаткой в руке… Кому взбрело на ум заснять его в военную зиму, в эвакуации?Пасьянс из многих фото, которые фиксировали изменения облика его с детства до старости, а в мозаичном единстве собирались в почти дописанную картину, он в относительно хронологическом порядке всё чаще на сон грядущий машинально раскладывал на протёртом зелёном сукне письменного стола – безуспешно отыскивал сквозной сюжет жизни; в сомнениях он переводил взгляд с одной фотографии на другую, чтобы перетряхивать калейдоскоп памяти и – возвращаться к началу поисков.

История, начавшаяся с шумного, всполошившего горожан ночного обрушения жилой башни, которую спроектировал Илья Соснин, неожиданным для него образом выходит за границы расследования локальной катастрофы, разветвляется, укрупняет масштаб событий, превращаясь при этом в историю сугубо личную.Личную, однако – не замкнутую.После подробного (детство-отрочество-юность) знакомства с Ильей Сосниным – зорким и отрешённым, одержимым потусторонними тайнами искусства и завиральными художественными гипотезами, мечтами об обретении магического кристалла – романная история, формально уместившаяся в несколько дней одного, 1977, года, своевольно распространяется на весь двадцатый век и фантастично перехлёстывает рубеж тысячелетия, отражая блеск и нищету «нулевых», как их окрестили, лет.

Драматические события повести Петра Столповского «Волк» разворачиваются в таёжном захолустье. Герой повести Фёдор Карякин – из тех людей, которые до конца жизни не могут забыть обиду, и «волчья душа» его на протяжении многих лет горит жаждой мести...
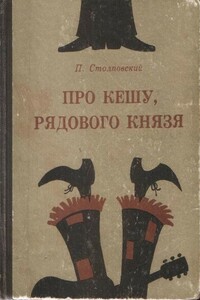
«Про Кешу, рядового Князя» — первая книга художественной прозы сытывкарского журналиста Петра Столповского. Повесть знакомит читателя с воинским бытом и солдатской службой в мирное время наших дней. Главный герой повести Кеша Киселев принадлежит к той части молодежи, которую в последние годы принято называть трудной. Все, происходящее на страницах книги, увидено его глазами и прочувствовано с его жизненных позиций. Однако событийная канва повести, становясь человеческим опытом героя, меняет его самого. Служба в Советской Армии становится для рядового Князя хорошей школой, суровой, но справедливой, и в конечном счете доброй.

Сюжет захватывающего психологического триллера разворачивается в Норвегии. Спокойную жизнь скандинавов всё чаще нарушают преступления, совершаемые эмигрантами из неспокойных регионов Европы. Шелдон, бывший американский морпех и ветеран корейской войны, недавно переехавший к внучке в Осло, становится свидетелем кровавого преступления. Сможет ли он спасти малолетнего сына убитой женщины от преследования бандой албанских боевиков? Ведь Шелдон — старик, не знает норвежского языка и не ориентируется в новой для него стране.
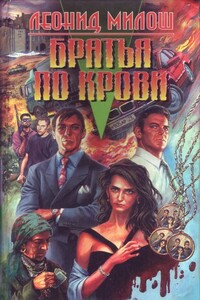
Это конец. Он это понял. И последняя его мысль лихорадочно метнулась к цыганке, про которую он уже совсем забыл и которая неожиданно выплыла в памяти со своим предсказанием — «вы умрете в один день». Метнулась лишь на миг и снова вернулась к Маше с Сергеем. «Простите меня!..»***Могила смотрелась траурно и величественно. Мужчина взглянул на три молодых, улыбающихся ему с фотографии на памятнике лица — в центре девушка, обнимающая двух парней. Все трое радостные, участливые… Он глубоко вздохнул, попрощался со всеми тремя и медленно побрел обратно к машине.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
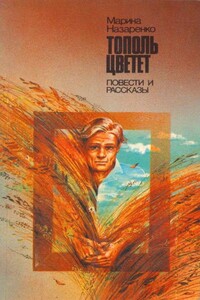
В книгу Марины Назаренко вошли повести «Житие Степана Леднева» — о людях современного подмосковного села и «Ты моя женщина», в которой автору удалось найти свои краски для описания обычной на первый взгляд житейской истории любви немолодых людей, а также рассказы.