Приключения одной философской школы [заметки]
1
«Это ее ремесло».
2
Разумеется, какой-нибудь, положим, деревянный куб может действовать на звучащую струну, изменяя при этом и ее звук. Но это возможно именно потому, и только потому, что и деревянный куб, и звучащая струна принадлежат к одному и тому же ряду комплексов — к конкретному физическому опыту, — и заключают в себе массу элементов одного порядка: и здесь и там элементы твердости, элементы пространственные, цветовые, и т. д.
3
Последняя работа Плеханова — брошюра «Основные вопросы марксизма» — указывает, как будто, на решительный поворот в его взглядах, касающихся «материи». Говорю — «как будто», — потому что ясной формулировки этого поворота там нет. Там просто игнорируется самый вопрос о «вещах в себе», лежащих «по ту сторону явлений», и дело идет только об обыкновенных «вещах», которые принимаются как «чувственные» объекты, т. е. как данные опыта. Но есть одно и такое место, которое может быть истолковано, как прямой отказ от прежних воззрений. Плеханов цитирует Фейербаха: «Я есмь я для самого себя, и ты — для другого. Но таковым я являюсь только как чувственное существо. Абстрактный же рассудок изолирует это для-себя-бытие, как субстанцию, атом, я, бог; поэтому связь для-себя-бытия с бытием-для-другого является у него произвольной. То, что мыслится мною вне чувственности (ohne Sinnlichkeit) мыслится вне всякой связи». К этой цитате Плеханов делает два замечания. Во-первых, термин «чувственное» он поясняет словами — «т. е. материальное». Но так как «чувственность» — это и есть опыт, и только опыт, то оказывается, что ни о какой материи как «вещи в себе», материи вне опыта не может уже быть и речи; все сводится к «чувственному», т. е. к явлению, опыту, «элементам». Как будто, все очень хорошо. Но… тут выступает второе замечание Плеханова к цитате: «Мы очень рекомендуем эти слова Фейербаха вниманию г. Богданова» (стр. 20). Что хотел этим сказать Плеханов? Обратить мое внимание на то, что я солидарен с Фейербахом в этом случае? Но я это, конечно, знал и раньше. Обратить мое внимание на то, что он, Плеханов, переходит к точке зрения Фейербаха, порывая с полу-кантианской «вещью в себе»? Не похоже и на это — тон, как будто, полемический… И опять все спутано и неясно относительно «чувственности» и «материи».
4
Плеханов был одним из первых популяризаторов идей марксизма в России, мы все долго учились по его произведениям, и потому нет ничего удивительного, что мы долгое время искренно считали его действительным представителем и философских воззрений Маркса-Энгельса. Поэтому, года 4 тому назад, критикуя плехановскую «вещь в себе», я отнес эту критику и к Энгельсу, от имени которого упорно говорил Плеханов. Недавно Плеханов на публичном реферате, в ответ на мое указание о его расхождении по этому вопросу с Энгельсом, попытался использовать против меня соответственное место из моей книги («Эмпириомонизм», II ч., стр. 41). На этом я прервал его словами «Тогда я Вам поверил, а потом проверил!» Теперь Плеханов в своем фельетоне — ответе на мое открытое письмо — передает эти слова, приводя их в кавычках, следующим образом: «Я так думал прежде, а теперь вижу, что ошибался». — Для меня совершенно непостижимо то… хладнокровие, с которым Плеханов цитирует в радикально переделанном виде мои слова, сказанные очень громко и очень ясно и при тысяче свидетелей. В переделке устранено главное — серьезное обвинение, открыто брошенное мною Плеханову.
5
Где нет действительной связи с наукой, там обыкновенно выступает на сцену «аппарат учености» — цитаты, цитаты без конца. Это одна из болезней разбираемой школы. Мысль читателя непрерывно дробится приводимыми всего чаще без надобности именами и текстами — очень часто иностранными, без перевода. Возьмите последнюю брошюру Плеханова: «Основные вопросы марксизма»: популярная по существу брошюра в 4 обычных печатных листа; цитат — несколько сотен, и ни английские, ни немецкие, ни даже древне-французские в большинстве не переведены: так легче запугать читателя, чтобы он чувствовал глубину учености автора. Две трети цитат излишни. Приведу один, по-истине классический, образец: «…еще Гегель говорил, что моря и реки сближают людей, между тем как горы их разделяют. Впрочем, моря сближают людей только на сравнительно более высоких стадиях развитая производительных сил; на более же низких море, по справедливому замечанию Ратцеля, очень сильно затрудняет сношения между разделенными им племенами» (стр. 39–40). Чтобы высказать банальнейшую истину, вошедшую уже давно в самые элементарные учебники политической экономии и истории культуры, понадобилось потревожить прах Гегеля и сослаться на географа Ратцеля. — Если Маркс много цитировал в «Капитале», то не для доказательства, что дважды два — четыре.
6
Это отнюдь не мое только мнение, это также мнение такого знатока английской истории, как Энгельс. Вот что говорит он о тогдашней английской «аристократии»:
«…Хотя тогда, как и теперь, они назывались аристократией, но они уже давно стояли на пути к тому, чтобы сделаться — как во Франции лишь спустя долгое время Луи-Филипп — первыми буржуа нации. К счастью для Англии, старые феодальные бароны перебили друг друга в войнах Алой и Белой Розы. Их преемники, хотя и были, по большей части, потомками тех же древних фамилий, происходили из таких отдаленных боковых линий, что составляли совершенно новую корпорацию; их привычки к стремления были гораздо более буржуазны, чем феодальны, они хорошо знали цену деньгам, и быстро повысили свою земельную ренту, вытеснивши сотни мелких арендаторов, и заменивши их овцами. Генрих VIII массами создавал новых буржуа-лэндлордов, раздаривая и продавая за бесценок церковные имущества; в том же направлении действовали непрерывно продолжавшиеся до конца XVII века конфискации больших имений, которые затем передавались разным выскочкам. Поэтому-то английская „аристократия“ со времени Генриха VII не только не противодействовала промышленному развитию, но, наоборот, старалась извлечь из него пользу». (Выше цитиров. английское предисловие, Neue Zeit 1892-3 I В. № 2).
7
Справедливость требует признать, что некоторые, мимоходом брошенные, замечания Энгельса могли помочь развитию ошибочной теории Бельтова. В том же английском предисловии к брошюре о «Научном социализме» он писал: «…С Гоббсом материализм выступил на сцену как защитник королевского всемогущества, и призывал абсолютную монархию к укрощению народа — этого puer robustus sed malitiosus (ребенок здоровый и сильный, но беспокойный). И при преемниках Гоббса — Болингброке, Шэфтсбюри и др. деистическая форма материализма оставалась учением аристократическим, предназначенным для избранных, и потому буржуазия ненавидела его не только за религиозную ересь, в нем заключавшуюся, но и за его связь с политическими антибуржуазными тенденциями» (Neue Zeit, 1892-3 I В. № 2, стр. 45). Аристократия, о которой здесь говорится, это, как мы видели, в сущности — высшая буржуазия, капиталистические землевладельцы; она противополагается большинству буржуазии. — Во всяком случае, подобные приведенному нами соображения сам Энгельс рассматривал, как частные и менее важные; он и не думал создавать из них теорию идеологического развития.
8
Возможно, что и в первой приведенной мною цитате о Махе из Плеханова слова — «тела или вещи только — мысленные символы наших ощущений» — представляют из себя лишь радикально извращенный перевод одного места из «Anal. der Empf» Маха. Это место в целом таково:
«Не тела производят ощущения, но комплексы элементов (ощущений) образуют тела. Если физику тела кажутся чем-то постоянным, действительным, а „элементы“, напротив, неустойчивой, преходящей видимостью, то он просто не замечает, что человеческие понятия о телах — только мысленные символы для комплексов элементов (ощущений)» (стр. 23, изд. 1906 г.).
То, что мною переведено «человеческие понятая о телах», выражено у Маха словом «Korper», поставленным в кавычки, чтобы обозначить, что дело идет не о самых телах, т. е. физических комплексах, а об относящихся к ним понятиях или высказываниях людей. Признание самых тел за символы — точка зрения эмпириосимволистов — решительно отвергается Махом.
9
Этот способ полемики посредством фальшивых цитат я откровенно характеризовал в своем «Открытом письме тов. Плеханову» (Вестн. Жизни, 1907, 7), сказавши, что это — «не критика, а какая-то… уголовщина». Теперь Плеханов в своем фельетоне — ответе на мое открытое письмо — передает это мое замечание таким образом: «Вы утверждаете, что некоторые из моих единомышленников возводят на вас чуть не „уголовное“ обвинение». Положительно, тут перед нами какая-то фамильная болезнь «школы».
10
Для менее осведомленных читателей я поясню, в чем, собственно, заключается доказательная сила этого последнего аргумента. В нашей международной семье титул «господина» допускается применять только по отношению к лицам, стоящим вне ее организаций. Таким образом, дело сводится просто к сообщению читателям неверного сведения, которое должно в известную сторону предрасполагать тех из них, которые принадлежат к означенной международной организации.
В своем последнем фельетоне (июнь-июль 1907 г.) Плеханов к перечисленным выше эпитетам прибавил несколько… уже просто ругательств. Понятно, что я здесь их приводить не стану — желающие могут обратиться к подлиннику.
11
Этот комический инцидент имел свое продолжение. В упомянутом выше фельетоне Плеханов заявляет, что он никогда не мог и подумать о таком невозможном предположении, как — выслать меня из пределов марксизма, — потому что я никогда в этих пределах, и не находился. Очень хорошо, — но пожелание-то было высказано, ясное для всякого, кто умеет читать и понимать прочитанное, и высказано Бельтовым. Как же теперь Плеханов объявляет его невозможным?
В том же фельетоне Плеханов упоминает, что он «пересек много кошек». Специальность, в своем роде… — почтенная, но увлекаться ею до того, чтобы проделать эту операцию над Н. Бельтовым!
12
Упомянутая выше статья в «Neue Zeit» 1893, I, 1–2.
13
Сторонники Плеханова указывали мне, как на подтверждение его отзыва о Дицгене, на одно замечание в письме Маркса к Кугельману, где говорится, что в присланной Марксу рукописи Дицгена на ряду с «множеством превосходных мыслей» есть «некоторая путаница понятий». Это письмо написано в 1868 г., и относится к отрывку первоначального наброска первой философской работы Дицгена. Цитированный же мною отзыв Энгельса напечатан спустя 20 лет, когда Дицген-философ был уже весь налицо, а не в будущем. Ясно, что два отзыва просто несоизмеримы.
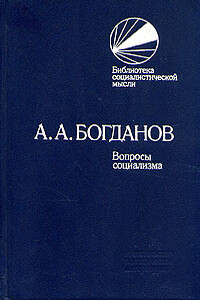
В настоящем сборнике впервые осуществлена попытка дать целостное представление о взглядах видного деятеля рабочего движения, крупного ученого, интересного мыслителя и талантливого писателя А. А. Богданова на социализм. Читатель получит возможность детально познакомится с его анализом проблем движения человечества по пути к социализму, места и роль науки и культуры в процессе подготовки пролетариата к социалистической революции, планомерной организации жизни нового общества. Помимо теоретических работ в сборник включены и художественные произведения Богданова — «Красная звезда» и «Инженер Мэнни».http://ruslit.traumlibrary.net.
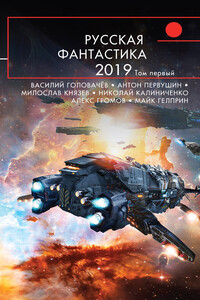
Решение созрело. Серж Ивановских не стал дожидаться, когда возьмут верх посторонние доводы, и повесил три восклицательных эмодзи в чате миссии, тем самым нарушив внутренний сетевой устав. На этом приключения кандидата-аспиранта Ивановских, прилетевшего в планетную систему Саган изучать феномен местных дайкадзю, не закончились… Российская обсерватория «Астрон», расположенная в кратере Циолковский на обратной стороне Луны, обнаруживает в далеком Космосе странный объект сферической формы… Месье Симону не привыкать иметь дело с потусторонними силами, но ситуация, с которой он столкнулся в имении богатого немецкого фюрста, поразила даже его… Василий Головачёв, Антон Первушин, Майк Гелприн, Милослав Князев и другие ведущие отечественные писатели-фантасты в традиционном ежегоднике «Русская фантастика»!

Во второй половине XX века интерес к идеям «Тектологии» (1913–1928) возрос в связи с развитием кибернетики. Работа интересна тем, что ряд положений и понятий, разработанных в ранках «Тектологии» («цепная связь», «принцип минимума» и др.), применим и для построения кибернетических, моделей экономических процессов и решения планово-экономических задач. Переиздание книги рассчитано на подготовленного читателя, знакомого с оценкой В. И. Ленина «Краткого курса экономической науки» (1897 г.) и критикой идеалистической системы «эмпириокритицизма», данной в работе «Материализм и эмпириокритицизм» (1908 г.).Для научных работников.
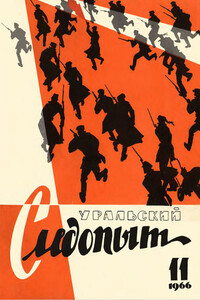
Александр Александрович Богданов (1873–1928) — русский писатель, экономист, философ, ученый-естествоиспытатель.В 1908 году завершил и опубликовал свое лучшее научно-фантастическое произведение — роман «Красная звезда», который можно считать предтечей советской научной фантастики. Одновременно вел активную революционную работу в тесном контакте с В.И. Лениным.В 1913–1917 гг. создал двухтомное сочинение «Всеобщая организационная наука», в котором выдвинул ряд идей, получивших позднее развитие в кибернетике: принципы обратной связи, моделирования, системного анализа изучаемого предмета и др.После Октябрьской революции А.Богданов посвящает себя работе в биологии и медицине.
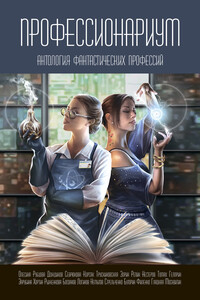
«Письмо из службы профпереподготовки пришло, когда я почти перестала ждать и свыклась с тем, что любить мне не положено. Это был самый обычный день. Ожидалась проверка, но это рутина, у нас в семье что ни день проверки. В Министерстве воспитания не доверяют электронному мониторингу и то и дело отправляют контролёров-людей проследить: а вдруг мы сами рисуем на планшетах те картинки, которые подгружаем в систему под видом детского творчества?..».
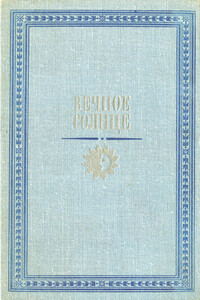
Сборник «Вечное солнце» хронологически продолжает книгу «Взгляд сквозь столетия. Русская фантастика XVIII и первой половины XIX века» (составитель В. Гуминский, «Молодая гвардия», 1977). Настоящая антология состоит из двух разделов: утопического и научно-фантастического. Не всегда можно четко разграничить эти жанровые разновидности. Так, А. Богданов считал свою «Красную звезду» романом-утопией. Но преобладание в его книге научно-технических аспектов будущего позволяет отнести ее ко второму разделу. В первом разделе делается попытка под особым углом взглянуть на некоторые центральные для русской литературы того времени проблемы.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В свете недавних восстаний против неолиберального капиталистического строя, Сол Ньюман утверждает, сейчас наш современный политический горизонт формирует пост анархизм. В этой книге Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией. Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни. По мере того, как обнажается нигилизм и пустота политического и экономического порядка, постанархизм предлагает нам подлинный освободительный потенциал.

Целью данного учебного пособия является знакомство магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям «политология» и «международные отношения», с основными течениями мировой политической мысли в эпоху позднего Модерна (Современности). Основное внимание уделяется онтологическим, эпистемологическим и методологическим основаниям анализа современных международных и внутриполитических процессов. Особенностью курса является сочетание изложения важнейших политических теорий через взгляды представителей наиболее влиятельных школ и течений политической мысли с обучением их практическому использованию в политическом анализе, а также интерпретации «знаковых» текстов. Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлению «Международные отношения», а также для всех, кто интересуется различными аспектами международных отношений и мировой политикой и приступает к их изучению.

Люди странные? О да!А кто не согласен, пусть попробует объяснить что мы из себя представляем инопланетянам.

Основой этой книги является систематическая трактовка исторического перехода Запада от монархии к демократии. Ревизионистская по характеру, она описывает, почему монархия меньшее зло, чем демократия, но при этом находит недостатки в обоих. Ее методология аксиомативно-дедуктивная, она позволяет писателю выводить экономические и социологические теоремы, а затем применять их для интерпретации исторических событий. Неотразимая глава о временных предпочтениях объясняет процесс цивилизации как результат снижающихся ставок временного предпочтения и постройки структуры капитала, и объясняет, как взаимодействия между людьми могут снизить ставку временных предпочтений, проводя параллели с Рикардианским Законом об образовании связей. Сфокусировавшись на этом, автор интерпретирует разные исторические феномены, такие как рост уровня преступности, деградация стандартов морали и рост сверхгосударства.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.