Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века - [5]
Здесь описан абсолютистский политический космос, в средоточии которого располагается фигура монархини и исходящий от нее процесс всеобщего просвещения подданных. «Прекраснейшие Музы сея книги» освящают не столько литературную работу автора или переводчика, сколько политическое функционирование монархии, в чьей власти распространить производимое Академией книжное знание «во все концы пространнейшаго Вашего обладания». Посредством этого знания, или «пения», исполненный «рачения и промысла» царский взгляд «пресветлых очей Вашего Величества» достигает подданных «всякого чина и состояния» и «возбуждает» их «к непоползновенной должности». Таким образом, Тредиаковский осмысляет свой перевод и вообще издательскую деятельность Академии как медиум дисциплинарной государственности, в которой отношения автора и читающей публики поглощены отношениями самодержавия к сообществу подданных.
В посвящении Тредиаковского панегирический язык подношения переплетается с нормативной речью о литературе, опирающейся на общепризнанный авторитет Барклая. Здесь обнаруживается специфическая функция литературной теории, едва ли не преобладавшей в русской печати середины XVIII в. над оригинальным сочинительством. В посмертно опубликованной статье «Русская литературно-критическая мысль в 1730–1750‐е годы» Г. А. Гуковский заключал:
<…> нормализация литературы <…> была необходимым отражением общего содержания государственной жизни русского народа в первой половине XVIII столетия. Личность и масса подчинились нормам закона, правительственной схемы, подчинились целенаправленному устремлению государства, воплощенного и в Петре, и во власти вообще. Дисциплина, норма стали основой силы страны, ее поступательного хода, принципом ее обновленного бытия. <…> Возникла внутренняя необходимость регламентировать, узаконить, ввести в норму, подчинить государственным, общенародным задачам и формам и культуру, и ту область ее, где стихийность, непреднамеренность, эмоциональный произвол могли быть особенно сильны, – искусство, прежде всего – литературу, поэзию. <…> Необходимо было сделать ее системой, введя ее тем самым в круг явлений государственного подчинения и гражданского бытия (Гуковский 1962а, 109–110).
Соображения Пумпянского и Гуковского были развернуты в теоретическую конструкцию учеником Гуковского Ю. М. Лотманом. В первую очередь мы имеем в виду его почти незамеченную итоговую монографию «Очерки по истории русской культуры XVIII – начала XIX века» (1992), опубликованную посмертно в коллективном сборнике. Это исследование, включающее в себя многие хорошо известные статьи и положения Лотмана, встраивает вопрос о литературе и толкования отдельных текстов в масштабную и методологически амбициозную картину культурных процессов, в ходе которых складывались и эволюционировали отношения между властью, текстом, читательской публикой и политической субъектностью.
Рассматривая вопрос о «классицизме», Лотман предлагает видеть в нем теоретическую фикцию:
XVIII век был веком теорий. Особенно это относится к России, которая сознательно строила свою культуру как «новую», оторванную от традиций и подлежащую реконструкции на основе идеальных теоретических моделей. Однако отношение к теории было специфическим. Теория – будь то теория государственности, проекты построения идеальных городов (при Петре – Петербурга, при Екатерине II – Твери), создание грамматики или построение теории литературных жанров – не была абстракцией эмпирической реальности, а тяготела к идеалу, утопии, к которым жизнь призвана стремиться, но достичь которых она по природе своей не может. Как жизнь относилась к литературным произведениям, видя в них свою идеальную, но недостижимую норму, так и художественные тексты относились к литературной теории. <…> Поэтому теории XVIII в. носят в основном нормативный характер. Они не познают законы литературы, а предписывают их (Лотман 1996, 128–129).
Отправляясь от «классицистической» теории и не совпадающей с ней литературной практики XVIII в., Лотман обнаруживает дискурсивную природу дисциплинарной государственности начала Нового времени и ее зависимость от работы и регламентации языка. В категориях более ранней статьи Лотмана и Б. А. Успенского «К семиотической типологии русской культуры XVIII века» (1973), «метатексты, нормирующие „правильное“ творчество» стоят в одном ряду с прочими утопическими «грамматиками культуры», к которым принадлежит и «„регулярная“ система метагосударственности» (Лотман, Успенский 1996а, 433, 438).
К сходным выводам приходили одновременно с Лотманом и западные исследователи. В работе 1983 г. Петер Бюргер разрабатывает понятие «института литературы» (Institution Literatur):
Это понятие описывает не совокупность всех бытующих в данную эпоху литературных практик, но ту из них, которой свойственны по меньшей мере три следующих признака: претензия на определенную функцию в системе общества в целом; построение эстетического кодекса, одновременно легитимирующего отсечение иных литературных практик; претензия на универсальность (институт литературы определяет, что в данную эпоху считается литературой). Истолкованное таким образом понятие институции наделяет первостепенным значением нормативный уровень, поскольку именно он определяет поведение производителей и потребителей [литературы] (Bürger 1983, 13).
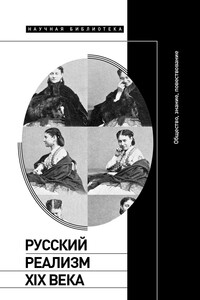
Научная дискуссия о русском реализме, скомпрометированная советским литературоведением, прервалась в постсоветскую эпоху. В результате модернизация научного языка и адаптация новых академических трендов не затронули историю русской литературы XIX века. Авторы сборника, составленного по следам трех международных конференций, пытаются ответить на вопросы: как можно изучать реализм сегодня? Чем русские жанровые модели отличались от западноевропейских? Как наука и политэкономия влияли на прозу русских классиков? Почему, при всей радикальности взглядов на «женский вопрос», роль женщин-писательниц в развитии русского реализма оставалась весьма ограниченной? Возобновляя дискуссию о русском реализме как важнейшей «моделирующей системе» определенного этапа модерности, авторы рассматривают его сквозь призму социального воображаемого, экономики, эпистемологии XIX века и теории мимесиса, тем самым предлагая читателю широкий диапазон современных научных подходов к проблеме.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.
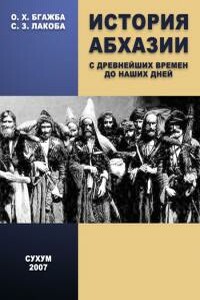
В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.
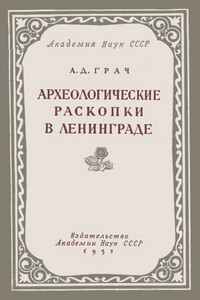
Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.

Материалы III Всероссийской научной конференции, посвящены в основном событиям 1930-1940-х годов и приурочены к 70-летию начала «Большого террора». Адресованы историкам и всем тем, кто интересуется прошлым Отечества.

Очередной труд известного советского историка содержит цельную картину политической истории Ахеменидской державы, возникшей в VI в. до н. э. и существовавшей более двух столетий. В этой первой в истории мировой державе возникли важные для развития общества социально-экономические и политические институты, культурные традиции.

Монография посвящена актуальной научной проблеме — взаимоотношениям Советской России и великих держав Запада после Октября 1917 г., когда русский вопрос, неизменно приковывавший к себе пристальное внимание лидеров европейских стран, получил особую остроту. Поднятые автором проблемы геополитики начала XX в. не потеряли своей остроты и в наше время. В монографии прослеживается влияние внутриполитического развития Советской России на формирование внешней политики в начальный период ее существования. На основе широкой и разнообразной источниковой базы, включающей как впервые вводимые в научный оборот архивные, так и опубликованные документы, а также не потерявшие ценности мемуары, в книге раскрыты новые аспекты дипломатической предыстории интервенции стран Антанты, показано, что знали в мире о происходившем в ту эпоху в России и как реагировал на эти события.
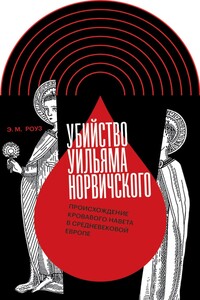
В 1144 году возле стен Норвича, города в Восточной Англии, был найден изувеченный труп молодого подмастерья Уильяма. По городу, а вскоре и за его пределами прошла молва, будто убийство – дело рук евреев, желавших надругаться над христианской верой. Именно с этого события ведет свою историю кровавый навет – обвинение евреев в практике ритуальных убийств христиан. В своей книге американская исследовательница Эмили Роуз впервые подробно изучила первоисточник одного из самых мрачных антисемитских мифов, веками процветавшего в массовом сознании.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена литературным и, как правило, остро полемичным опытам императрицы Екатерины II, отражавшим и воплощавшим проводимую ею политику. Царица правила с помощью не только указов, но и литературного пера, превращая литературу в политику и одновременно перенося модную европейскую парадигму «писатель на троне» на русскую почву. Желая стать легитимным членом европейской «république des letteres», Екатерина тщательно готовила интеллектуальные круги Европы к восприятию своих текстов, привлекая к их обсуждению Вольтера, Дидро, Гримма, приглашая на театральные представления своих пьес дипломатов и особо важных иностранных гостей.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.