При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы - [22]
Проще всего было с сочинениями запрещенными. Не говоря об извечной склонности к «запретному плоду» и рано выработанной готовности воспринимать почти всякое «казенное» утверждение как обман, работал и более естественный механизм – доверие к уже наличествующему собственному опыту. Грубо говоря, если стихи Пастернака (которые я читал с двенадцати лет) мыслились как значимый (и лично мне особенно дорогой) факт истории литературы, то и в недоступном до поры «Докторе Живаго» (роман я прочел, кажется, на первом курсе, может быть, на втором) заранее виделась высокая ценность. Если стихи Блока и Андрея Белого в историю литературы входят, то там же должно найтись место для прозы Белого (прочитанной уже в университете) и сочинений их современников, что были значимы для этих поэтов. А догадаться (даже располагая лишь советскими изданиями Блока и Белого) о том, что не только Сологуб и Вячеслав Иванов (тоже вскоре худо-бедно изданные), но и бесконечно поносимые Мережковский с Гиппиус были для Блока и Белого не пустыми людьми, особого труда не составляло. Процесс разочарования от «задержанных», некогда слишком много обещавших встреч с иными «серебряновечными» авторами выразительно описан Тимуром Кибировым в поэме «Солнцедар». Но и в таких случаях – а кто же подобного не испытывал? – «оценка» не отменяла необходимости включить нелюбезных мне лично сочинителей в постоянно достраиваемое целое. В конце концов многие филологи высочайшего класса до сих пор не считают нужным скрывать свою неприязнь к «Доктору Живаго». Однако речи о выведении этого романа за рамки истории литературы вроде бы не идет.
Может быть, сложнее было избежать соблазна «обратных общих мест», приправленного извечной нашей страстью решать роковой вопрос о сравнительной мощи кита и слона. Помню, что, услышав (кажется, мой второй курс, то есть 1975 или 1976 год) на публичной лекции В. В. Кожинова тезис «Лесков – гораздо более значительный писатель, чем Тургенев», я несколько впечатлился. Вероятно, потому что Лескова читал (мало и бестолково) именно об эту пору, а Тургенева – раньше и позже. Впрочем, и тогда меня привлекали в речении Кожинова не парадоксальность (сейчас, вероятно, многим этот тезис покажется трюизмом, а обратный – парадоксом) и не дискредитация Тургенева, а актуализация Лескова. Безусловно совсем не новаторская (Лесков был «повышен в чине» уже в начале ХХ века, когда, если вдуматься, и была сформирована та ценностная система, что работает по сей день), но в середине 1970-х годов насущно необходимая. (Оставим в стороне ее неприятные идеологические обертоны. Увы, они присутствовали в процессе актуализации – то есть возвращения в историю – и других классиков. Например, Карамзина и Тютчева.) И если сейчас я, осознавая очевидный комизм дискуссий о слоне и ките, склонен считать Тургенева писателем очень значительным (и недооцененным), то это вовсе не предполагает умаления исторической роли Лескова.
Определенный соблазн мог возникнуть в отношении писателей, находящихся в фаворе у советской идеологической системы. Но и тут находились противовесы. Иногда не слишком удачные по генезису. Так традиционный «революционаризм» русской интеллигенции вкупе с аллюзионной установкой позднесоветской культуры (в принципе, антиисторическое и глубоко непродуктивное отождествление царской власти с властью советской) страховал от небрежения декабристами (в том числе – литераторами; отсюда устойчивое преувеличение историко-литературного значения поэзии Рылеева, которое все же лучше, чем ее возможное игнорирование), Герценом и – до какой-то поры – теми, кто именовался «революционными демократами». Последним в итоге (то есть к концу советской эпохи) приходилось хуже всех, но и здесь можно было избежать крайностей. Те, кто дал себе труд внимательно (а не «по главам» и пересказу учебника) ознакомиться с романом «Что делать?», мог понять, что «рассказы о новых людях» жестко встроены не только в историю общественной мысли и революционного движения, но и в историю литературы. Уразумев этот трюизм, ты избавлялся от необходимости третировать этот дурно написанный (дурно, но написанный; написанный с сознательной установкой на «дурноту») текст, а потом, когда «обратное общее место» оказалось замененным «обратным обратным общим местом» (очередная истинная свобода – она же высшая научная объективность – состоит в том, чтобы просмаковать то, от чего плюется типовой либеральный интеллигент), не был обязан дивиться изысканной «плохописи» романа, его мотивным перекличкам с длинным рядом влиятельных сочинений (как европейских, так и отечественных) или его актуальности для американских университетов эпохи политкорректности, феминизма и постмодернизма.
Конечно, серьезные издержки были неизбежны. Но, право слово, я хуже, чем скверно, знаком с прозой народников не потому только, что писали ее народники (достойнейшие все люди). И не потому, что она «навязывалась», входила во все программы, а я трижды (на третьем курсе, на вступительным экзамене в аспирантуру, сдавая кандидатский минимум) обречен был с ней разбираться. (И злился: о Полонском или, скажем, А. К. Толстом

Хотя со дня кончины Вадима Эразмовича Вацуро (30 ноября 1935 — 31 января 2000) прошло лишь восемь лет, в области осмысления и популяризации его наследия сделано совсем немало.

Книгу ординарного профессора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (Факультет филологии) Андрея Немзера составили очерки истории русской словесности конца XVIII–XX вв. Как юношеские беседы Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера сказались (или не сказались) в их зрелых свершениях? Кого подразумевал Гоголь под путешественником, похвалившим миргородские бублики? Что думал о легендарном прошлом Лермонтов? Над кем смеялся и чему радовался А. К. Толстой? Почему сегодня так много ставят Островского? Каково место Блока в истории русской поэзии? Почему и как Тынянов пришел к роману «Пушкин» и о чем повествует эта книга? Какие смыслы таятся в названии романа Солженицына «В круге первом»? Это далеко не полный перечень вопросов, на которые пытается ответить автор.
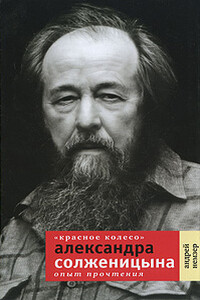
В книге известного критика и историка литературы, профессора кафедры словесности Государственного университета – Высшей школы экономики Андрея Немзера подробно анализируется и интерпретируется заветный труд Александра Солженицына – эпопея «Красное Колесо». Медленно читая все четыре Узла, обращая внимание на особенности поэтики каждого из них, автор стремится не упустить из виду целое завершенного и совершенного солженицынского эпоса. Пристальное внимание уделено композиции, сюжетостроению, системе символических лейтмотивов.
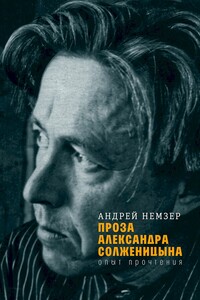
При глубинном смысловом единстве проза Александра Солженицына (1918–2008) отличается удивительным поэтическим разнообразием. Это почувствовали в начале 1960-х годов читатели первых опубликованных рассказов нежданно явившегося великого, по-настоящему нового писателя: за «Одним днем Ивана Денисовича» последовали решительно несхожие с ним «Случай на станции Кочетовка» и «Матрёнин двор». Всякий раз новые художественные решения были явлены романом «В круге первом» и повестью «Раковый корпус», «крохотками» и «опытом художественного исследования» «Архипелаг ГУЛАГ».

Новая книга Андрея Немзера – пятая из серии «Дневник читателя», четыре предыдущих тома которой были выпущены издательством «Время» в 2004–2007 годах. Субъективную литературную хронику 2007 года составили рецензии на наиболее приметные книги и журнальные публикации, полемические заметки, статьи о классиках-юбилярах, отчеты о премиальных сюжетах и книжных ярмарках. В завершающем разделе «Круглый год» собраны историко-литературные работы, посвященные поэзии А. К. Толстого и его роману «Князь Серебряный», поэтическому наследию С.

«„Герой“ „Божественной Комедии“ – сам Данте. Однако в несчетных книгах, написанных об этой эпопее Средневековья, именно о ее главном герое обычно и не говорится. То есть о Данте Алигьери сказано очень много, но – как об авторе, как о поэте, о политическом деятеле, о человеке, жившем там-то и тогда-то, а не как о герое поэмы. Между тем в „Божественной Комедии“ Данте – то же, что Ахилл в „Илиаде“, что Эней в „Энеиде“, что Вертер в „Страданиях“, что Евгений в „Онегине“, что „я“ в „Подростке“. Есть ли в Ахилле Гомер, мы не знаем; в Энее явно проступает и сам Вергилий; Вертер – часть Гете, как Евгений Онегин – часть Пушкина; а „подросток“, хотя в повести он – „я“ (как в „Божественной Комедии“ Данте тоже – „я“), – лишь в малой степени Достоевский.

«Много писалось о том, как живут в эмиграции бывшие русские сановники, офицеры, общественные деятели, артисты, художники и писатели, но обходилась молчанием небольшая, правда, семья бывших русских дипломатов.За весьма редким исключением обставлены они материально не только не плохо, а, подчас, и совсем хорошо. Но в данном случае не на это желательно обратить внимание, а на то, что дипломаты наши, так же как и до революции, живут замкнуто, не интересуются ничем русским и предпочитают общество иностранцев – своим соотечественникам…».

Как превратить многотомную сагу в графический роман? Почему добро и зло в «Песне льда и огня» так часто меняются местами?Какова роль приквелов в событийных поворотах саги и зачем Мартин создал Дунка и Эгга?Откуда «произошел» Тирион Ланнистер и другие герои «Песни»?На эти и многие другие вопросы отвечают знаменитые писатели и критики, горячие поклонники знаменитой саги – Р. А. САЛЬВАТОРЕ, ДЭНИЕЛ АБРАХАМ, МАЙК КОУЛ, КЭРОЛАЙН СПЕКТОР, – чьи голоса собрал под одной обложкой ДЖЕЙМС ЛАУДЕР, известный редактор и составитель сборников фантастики и фэнтези.

«Одно из литературных мнений Чехова выражено в таких словах: „Между прочим, читаю Гончарова и удивляюсь. Удивляюсь себе: за что я до сих пор считал Гончарова первоклассным писателем? Его Обломов совсем не важная штука. Сам Илья Ильич, утрированная фигура, не так уже крупен, чтобы из-за него стоило писать целую книгу. Обрюзглый лентяи, каких много, натура не сложная, дюжинная, мелкая; возводить сию персону в общественный тип – это дань не по чину. Я спрашиваю себя: если бы Обломов не был лентяем, то чем бы он был? И отвечаю: ничем.

Статья А. Москвина рассказывает о произведениях Жюля Верна, составивших 21-й том 29-томного собрания сочинений: романе «Удивительные приключения дядюшки Антифера» и переработанном сыном писателя романе «Тайна Вильгельма Шторица».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник вошли восемь рассказов современных китайских писателей и восемь — российских. Тема жизни после смерти раскрывается авторами в первую очередь не как переход в мир иной или рассуждения о бессмертии, а как «развернутая метафора обыденной жизни, когда тот или иной роковой поступок или бездействие приводит к смерти — духовной ли, душевной, но частичной смерти. И чем пристальней вглядываешься в мир, который открывают разные по мировоззрению, стилистике, эстетическим пристрастиям произведения, тем больше проступает очевидность переклички, сопряжения двух таких различных культур» (Ирина Барметова)

«Хуберт Зайпель имеет лучший доступ к Путину, чем любой другой западный журналист» («Spiegel»). В этом одно из принципиально важных достоинств книги – она написана на основе многочисленных личных встреч, бесед, совместных поездок Владимира Путина и немецкого тележурналиста. Свою главную задачу Зайпель видел не в том, чтобы создать ещё один «авторский» портрет российского президента, а в том, чтобы максимально точно и полно донести до немецкого читателя подлинные взгляды Владимира Путина и мотивы его решений.
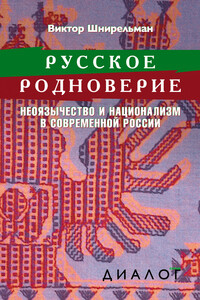
Книга посвящена истории русского неоязычества от его зарождения до современности. Анализируются его корни, связанные с нарастанием социальной и межэтнической напряженности в СССР в 1970-1980-е гг.; обсуждается реакция на это радикальных русских националистов, нашедшая выражение в научной фантастике; прослеживаются особенности неоязыческих подходов в политической и религиозной сферах; дается характеристика неоязыческой идеологии и показываются ее проявления в политике, религии и искусстве. Рассматриваются портреты лидеров неоязычества и анализируется их путь к нему.
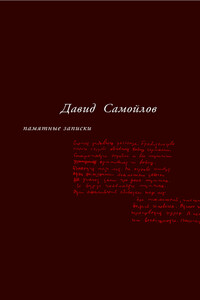
В конце 1960-х годов, на пороге своего пятидесятилетия Давид Самойлов (1920–1990) обратился к прозе. Работа над заветной книгой продолжалась до смерти поэта. В «Памятных записках» воспоминания о детстве, отрочестве, юности, годах войны и страшном послевоенном семилетии органично соединились с размышлениями о новейшей истории, путях России и русской интеллигенции, судьбе и назначении литературы в ХХ веке. Среди героев книги «последние гении» (Николай Заболоцкий, Борис Пастернак, Анна Ахматова), старшие современники Самойлова (Мария Петровых, Илья Сельвинский, Леонид Мартынов), его ближайшие друзья-сверстники, погибшие на Великой Отечественной войне (Михаил Кульчицкий, Павел Коган) и выбравшие разные дороги во второй половине века (Борис Слуцкий, Николай Глазков, Сергей Наровчатов)