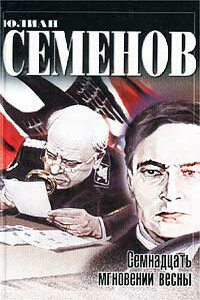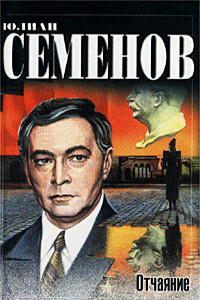Морозов, Струмилин и Аветисян переглянулись.
– Это к пурге, – сказал Струмилин Павлу, – имейте в виду на будущее: фиолетовый цвет – самый гадкий для нас здесь, в Арктике. Сколько еще нам до места, Геворк?
Аветисян отошел к своему столу, помудрил там с логарифмической линейкой и ответил:
– Тридцать одна минута.
– Благодарю вас. Володя, ну как? Успеем до пурги?
– Успеем.
– Да?
– Пожалуй, успеем.
– Такой ответ сейчас мне больше нравится, – улыбнулся Струмилин.
В кабину заглянул Дубровецкий.
– Летчики-пилоты, бомбы, самолеты, очень что-то здорово стало болтать, – сказал он, – в меня вселяется страх.
– Выселите его, – посоветовал Павел.
– Вам хорошо, вы мужественные, а я весь соткан из видимых миру слез и невидимого миру смеха.
– Это наоборот цитируется, – заметил Павел.
– У Гоголя – да, – согласился Дубровецкий, – но самобичующая правда вот моя походная визитная карточка.
– У вас их всего две? – спросил Морозов, подмигнув Павлу.
– Не понял…
– Что ж тут не понять: одна – походная, другая – стационарная. Одного такого шутника я уже знал.
– Кто же это?
– Двуликий Янус.
– Удар под микитки в шутливом разговоре, – сказал Дубровецкий, подняв указательный палец, как патер, – разрешался только одному человеку…
– Кому же? – спросил Морозов.
– Начальнику отдела сатиры в Мосгосэстраде.
– Квиты, – сказал Морозов, и все засмеялись.
– Подходим, Павел Иванович, – сказал Аветисян.
– Давайте-ка, Паша, – откашлявшись, скомандовал Струмилин, – спустимся и поищем льдинку.
Спускаясь, самолет попал в воздушную яму, и Дубровецкий, стоявший рядом с Морозовым за спинами летчиков, сильно ударился головой о переборки.
– О черт, – сказал он, – не хватало мне только лишиться языка! В Арктике это особенно весело.
– Во-он хорошая льдинка, Павел Иванович, – кивнул головой Павел на большое ледяное поле.
– Слишком хорошая.
– Вы не любите слишком хороших льдин?
– Не люблю.
– Очень хорошая льдинка, – сказал Морозов. – Паша прав…
– Предлагаете сесть?
– Пожалуй, да.
– Дымовую шашку! – скомандовал Струмилин и повел самолет на бреющий полет.
Он долго утюжил льдину, куда дольше, чем ту, с которой ушли два часа тому назад.
– Ладно, – сказал Струмилин, – будем садиться. Люк приготовьте!
У открытого люка стали Морозов и Сарнов. Как только лыжи коснулись льда, они сразу же высунулись, чтобы наблюдать, не появится ли вода. Самолет плавно бежал по льду. Но когда левая лыжа проходила по небольшому сугробу, самолет качнуло, и Морозов, неловко растопырив руки, упал на колени. Сарнов держал тяжелую дверь люка. Он не мог отпустить ее, потому что, отпустив дверь, он сделал бы еще хуже:
Морозова вытолкнуло бы немедленно на лед. А при огромной скорости самолета – это верная и немедленная гибель. Морозов пытался ухватиться пальцами, но его ногти скользили по обшивке, он неуклонно сползал вниз, неуклюже размахивая правой рукой и царапая ногтями по обшивке левой. Все это длилось какую-то долю секунды.
И еще осталась доля секунды до того, как он вывалится на лед и разобьется.
Дубровецкий, сидевший на запасном бензобаке, не то чтобы бросился к Морозову.
Каким-то непонятным, акробатическим движением он вскинул свое грузное тело и, распластавшись, полетел к Морозову. Он плюхнулся рядом с ним, застонал и в самый последний миг успел ухватить Морозова за воротник. Он затащил его в самолет, помог встать, поднялся сам и сказал:
– И все-таки оперативность – лучшее качество советской журналистики.
Сарнов, бледный до синевы, разлепил губы в улыбке.
– Ах, какой же вы молодчина, за вас Морозов должен свечу поставить!
– Религиозный дурман – опиум для народа.
Морозов хлопнул Дубровецкого по плечу и сказал:
– Будет вам, дружище. Что вы хитрите все время? Дуракам надо хитрить. С меня ужин в "Астории".
Подошедший Брок сразу же отреагировал.
– Обыкновенный питерский эгоизм, – сказал он.
– Почему?
– А с нами как быть? С москвичами?
Сарнов ответил:
– Мы пришлем вам коньяку заказной посылкой.
– Вы его еще вынесите нам на подносе, разлитым по стаканам, как дворникам.
– Вы извозчики, а не дворники.
– Зря вы спасали этого гражданина, – сказал Дубровецкому Брок, понапрасну затраченный труд, который граничил с героикой. Во имя кого?
Сарнов выглянул в люк и замахал руками.
– Вода! Вода! – закричал он. – Вода под лыжами.
Снег, убегавший из-под левой лыжи, становился сначала голубым, потом серым, а потом и вовсе черным. По снежному полю тянулся черный след, будто рваная рана.
Струмилин негромко скомандовал:
– Газ!
– Есть газ!
Моторы взревели, и самолет резко повело вперед.
– Не хватит разбежаться, там торосы, – сказал Богачев.
– Верно. Отставить, – так же негромко и спокойно сказал Струмилин. Будем разворачиваться. Тормоз, Володя.
Богачев, замерев, следил за работой Струмилина. Его, в который раз уже, поражала точность каждого движения командира. Но сейчас, в этот критический момент, когда все решалось мгновениями, Павел искал в Струмилине хоть каплю напряженности и той "мобилизованности", о которой он читал в книжках, описывающих подвиги.
Никакой напряженности в Струмилине не было: он сидел, откинувшись на спинку своего кресла, и, спокойно управляя машиной, успевал перекладывать языком леденец. Он не выплюнул леденец, когда узнал про воду, а продолжал неторопливо сосать его, перекладывая языком с правой щеки за левую.