Прелюдия. Homo innatus - [48]
Дождь. С него все начиналось. Им все и закончится. Он извечен. Он был всегда. Сколько себя помню. И вот он возвращается. Редкие волосы совсем промокли. Грязной паутиной они прилипают к лысине и лбу. А бороденка липнет к щекам. Священное омовение. Мне зябко, я кутаюсь в свое старое пальто. Ничто не способно нейтрализовать мою нервозность, раздражают любые звуки, малейшие шорохи, мой мозг конвертирует их в ужасный несмолкающий грохот, немолчный гул. Иногда мне становится смешно. Я улыбаюсь своим беззубым ртом и, вытаращив глаза, бью языком по уголкам губ. В эти минуты мне наплевать, что они смотрят на меня. Только в эти мгновения моих воспоминаний об игре. В остальное время я полностью подчинен другим. Внутри груди — ржавая арматура. Я чувствую, как она скрипит, как дырявит меня изнутри. Я жду, когда же, наконец, первый кусок металла рыжей спиралью вылезет наружу, выкорчевав сердце. Тогда я выдерну эти холодные прутья из располосованной грудной клетки. Облезлая осень — вот лучшее определение моему плешивому состоянию. Луна корчится в судорогах, словно червь на углях. Грузовики, грязь, канализационные люки, мокрая земля. Резервуары, заполненные застоявшейся дождевой водой. Я возвращаюсь на витрину.
Снег. Идет снег. Это сыплются серые хлопья старости. Стекло вернули на место. Всю жизнь я перебегаю туда и обратно. Теперь я снова здесь. Перед глазами — бесконечный белый занавес. Огромная простыня. Сквозь нее ничего не видно. Эта пыль обжигает кожу. Жуткая белая ночь. Она извечна. Я в кандалах снега. Закован в холод. Снег медленно падает на мою руку. Рука. У меня есть рука. Это все, что от меня осталось. Рука, в которой снег. Больше ничего. Только это. Только это. Больше ничего. Рука и снег. Собственно, ничего другого у меня и не было. Никогда не было. Мозоли, морщины и ссадины. Они там — под снегом. Я их еще помню. На снег даже приятнее смотреть. Хотя он тоже распахан морщинами. И напоминает о руке. Я мечтаю избавиться от памяти. Пальцам холодно, но с этим нельзя ничего поделать. Ужасно нелепо. Раньше я пытался сжимать кисть в кулак, но теперь рука оледенела. Я не могу пошевелить пальцами. Ладонь все больше наполняется леденеющим снегом — новыми горстями серебра. Кулак я тоже помню. Меня знобит от памяти. Холод разъедает кожу и забирается внутрь ладони, разрезает вены, грызет артерии, ползет по предплечью. Я промерзаю. Иногда мне снится, что рука держит кисть. И тогда я просыпаюсь от сумасшедшего хохота.
Дождь из земли и пепла. Последний абзац в моей версии времен года. Он вечен. Я начинаю привыкать к нему. Земляные струи разбиваются о сухое лицо. Песчинки подменили капли. На моих похоронах многолюдно. Сплошная стена земли, черной и мерзлой. Сыплется, как выкрошившийся из папиросы табак. Как пепел. Да, она напоминает мне пепел. Дождь в пустыне. Когда песок высыхает, он почти не отличается от пепла, разве что не так легок. Дождь из пепла, дождь из земли, в сущности, какая разница? Совершенно никакой. В конечном счете, все это — синонимы зеленой улицы. Хотя нет, я смешиваю категории, в которых едва начал разбираться. Скорее так: прогулка по зеленой улице неизбежно оканчивается дождем из земли. Коридор упирается в пепельную стену. У этого явления бесконечно много имен, в них элементарно запутаться. Но, проникнув в самую суть, внутрь дождя, уже не ошибешься. Тут вся эта хаотичная масса событий выстраивается в одну последовательную и логичную цепочку. Холодный пепел. Оболочка побеждает. Она оказалась прижизненной кремацией. Девяносто два, и в ад. Вяну. Ничего не слышу. Арматура. Всегда жарко. Не реагирую. Больше ни на что не реагирую. Снег в руке. Земля сыплется по щекам. Засохшая кровь крошится в ладони. Крошки крови. Пыль кинопленки. Цвета тускнеют. Я не подам вида. Ни за что. Попусту растрачивать свое безумие — этого я никогда не любил. Сейчас не время. Нужно переждать дождь. Это могло бы помочь, если б я не был абсолютно уверен в том, что за пепельной стеной — продолжение зеленой улицы. Продолжение бессмысленного ожидания. Смерти? Если бы смерти, тогда все было бы намного проще, — ожидания рождения. Сколько можно, ведь я уже почти уверен в том, что подлинного не существует. Присутствие невозможно, допустим лишь его поиск. Я никогда не покину спектакля. Он властвует даже над смертью.
Бурые, покрытые липкой грязью стены. Затхлая сырость. Босые ноги хлюпают по мокрой земле. Бурые стены. Он идет вдоль них по узкому проходу. Пробирается сквозь мусорные баррикады, тела, сваленные вместе с мусором на дорогу, и россыпи гниющих каштанов — расколотые сердца великой матери. Капли падают и бьются о землю. Сердца продолжают раскалываться. Он постоянно слышит этот прозрачный звук. Других, непривычных звуков он не переносит, они бередят в нем страх. Он переступает через свалку тел. Ему еще предстоит упасть рядом с ними. Он знает об этом. Но время еще не пришло. И сейчас его больше заботит узкая улочка. Иногда стены почти смыкаются, и проход становится настолько узким, что протиснуться в него можно, только изрядно сгорбившись. Его лохмотья цепляются за стены, а кожа на плечах и спине сдирается до крови. Но он спокоен. Не то чтобы ему безразлична боль, просто он свыкся с ней, научился ее терпеть. К тому же он знает, что рано или поздно стены снова разомкнутся, и тогда ссадины заживут. Его плоть срастется, но лишь для того, чтобы опять стать изодранной. Ведь через некоторое время стены снова начнут смыкаться. Он знает лабиринт, как свои пять пальцев. Вы думаете, он ищет выхода? Что вы! Он двигается, чтобы вконец не околеть в этой постылой сырости. Лишь ради этого он продолжает движение. Он даже не открывает глаз, настолько хорошо ему знакомы эти грязные переулки. От прикосновения к стенам на ладонях остается холодная слизь, норовящая заползти под рукава его обветшалого пальто. Привычным движением он старается стряхнуть ее на землю. Иногда это удается.

«Пустырь» – третий роман Анатолия Рясова, написанный в традициях русской метафизической прозы. В центре сюжета – жизнь заброшенной деревни, повседневность которой оказывается нарушена появлением блаженного бродяги. Его близость к безумию и стоящая за ним тайна обусловливают взаимоотношения между другими символическими фигурами романа, среди которых – священник, кузнец, юродивый и учительница. В романе Анатолия Рясова такие философские категории, как «пустота», «трансгрессия», «гул языка» предстают в русском контексте.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В мире, где даже прошлое, не говоря уже о настоящем, постоянно ускользает и рассыпается, ретроспективное зрение больше не кажется единственным способом рассказать историю. Роман Анатолия Рясова написан в будущем времени и будто создается на глазах у читателя, делая его соучастником авторского замысла. Герой книги, провинциальный литератор Петя, отправляется на поезде в Москву, а уготованный ему путь проходит сквозь всю русскую литературу от Карамзина и Радищева до Набокова и Ерофеева. Реальность, которая утопает в метафорах и конструируется на ходу, ненадежный рассказчик и особые отношения автора и героя лишают роман всякой предопределенности.
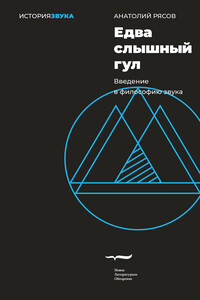
Что нового можно «услышать», если прислушиваться к звуку из пространства философии? Почему исследование проблем звука оказалось ограничено сферами науки и искусства, а чаще и вовсе не покидает территории техники? Эти вопросы стали отправными точками книги Анатолия Рясова, исследователя, сочетающего философский анализ с многолетней звукорежиссерской практикой и руководством музыкальными студиями киноконцерна «Мосфильм». Обращаясь к концепциям Мартина Хайдеггера, Жака Деррида, Жан-Люка Нанси и Младена Долара, автор рассматривает звук и вслушивание как точки пересечения семиотического, психоаналитического и феноменологического дискурсов, но одновременно – как загадочные лакуны в истории мысли.
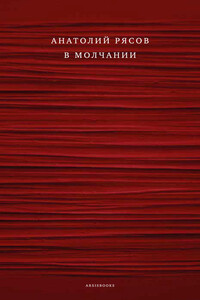
«В молчании» – это повествование, главный герой которого безмолвствует на протяжении почти всего текста. Едва ли не единственное его занятие – вслушивание в гул моря, в котором раскрываются мир и начала языка. Но молчание внезапно проявляется как насыщенная эмоциями область мысли, а предельно нейтральный, «белый» стиль постепенно переходит в биографические воспоминания. Или, вернее, невозможность ясно вспомнить мать, детство, даже относительно недавние события. Повесть дополняют несколько прозаических миниатюр, также исследующих взаимоотношения между речью и безмолвием, детством и старостью, философией и художественной литературой.

От автора… В русской литературе уже были «Записки юного врача» и «Записки врача». Это – «Записки поюзанного врача», сумевшего пережить стадии карьеры «Ничего не знаю, ничего не умею» и «Все знаю, все умею» и дожившего-таки до стадии «Что-то знаю, что-то умею и что?»…

У Славика из пригородного лесхоза появляется щенок-найдёныш. Подросток всей душой отдаётся воспитанию Жульки, не подозревая, что в её жилах течёт кровь древнейших боевых псов. Беда, в которую попадает Славик, показывает, что Жулька унаследовала лучшие гены предков: рискуя жизнью, собака беззаветно бросается на защиту друга. Но будет ли Славик с прежней любовью относиться к своей спасительнице, видя, что после страшного боя Жулька стала инвалидом?

В России быть геем — уже само по себе приговор. Быть подростком-геем — значит стать объектом жесткой травли и, возможно, даже подвергнуть себя реальной опасности. А потому ты вынужден жить в постоянном страхе, прекрасно осознавая, что тебя ждет в случае разоблачения. Однако для каждого такого подростка рано или поздно наступает время, когда ему приходится быть смелым, чтобы отстоять свое право на существование…

История подростка Ромы, который ходит в обычную школу, живет, кажется, обычной жизнью: прогуливает уроки, забирает младшую сестренку из детского сада, влюбляется в новенькую одноклассницу… Однако у Ромы есть свои большие секреты, о которых никто не должен знать.

Эрик Стоун в 14 лет хладнокровно застрелил собственного отца. Но не стоит поспешно нарекать его монстром и психопатом, потому что у детей всегда есть причины для жестокости, даже если взрослые их не видят или не хотят видеть. У Эрика такая причина тоже была. Это история о «невидимых» детях — жертвах домашнего насилия. О детях, которые чаще всего молчат, потому что большинство из нас не желает слышать. Это история о разбитом детстве, осколки которого невозможно собрать, даже спустя много лет…

Строгая школьная дисциплина, райский остров в постапокалиптическом мире, представления о жизни после смерти, поезд, способный доставить вас в любую точку мира за считанные секунды, вполне безобидный с виду отбеливатель, сборник рассказов теряющей популярность писательницы — на самом деле всё это совсем не то, чем кажется на первый взгляд…