Прелюдия. Homo innatus - [46]
Свет выключается. Темноту рассекают вспышки фотокамер. Слабые отголоски хора пробиваются сквозь грохот тарелок, звон монет и болтовню.
Голос в темноте: Вглядись в дым. Ты видишь проводника? Он стар, в его руках серебряный посох. Проводник мертв. Ты не заметила? Да, он горазд притворяться.
Ты готова покинуть город? Да, да, прямо сейчас. Собирайся. Слеза блеснула. Ты еще помнишь? Я тоже.
Дети бегут к реке. Они прекрасны и безумны. Они успеют. Они должны успеть.
Ток поступает в провода вен. Шелковые сумерки завернули в облый кокон грозу пробуждения. Мрак уже начал медленную пульсацию извне рассудка. Все стены чувствуют ужас воскресения.
По зрительному залу стремительно распространяется шипение змей. Портняжные ножницы разрезают батон хлеба.
Залатав души-бреши
В темноте кровоточит раздробленный гранат солнца. Стволы берез покрыты заплесневелой изморозью предела. Старуха тычет пальцем в небеса и что-то шамкает. Разобрать невозможно. Мокрой мукой засыпаны лица. Кожа вскормлена бледной сыпью. Береста скукожилась в сухой сверток, обнажив язвы оскалин. Замерзшие капли застыли осколками льда прямо на сухих листьях. Дверца погреба затворена.
Он опоздал на Ковчег. Отчаливаем без него!
ВНИМАНИЕ! ВЫХОД СКОМОРОХОВ!
Оперные вокалы (антифонное пение):
Декламирующий баритон заглушает все голоса:
Через сцену медленной рысью гарцует белый конь, на нем обнаженная наездница. Микрофоны распределены по панораме таким образом, чтобы цокот копыт перемещался справа налево — против направления движения.
Бессмысленный голос из темноты возобновляется: Солнечные лучи, словно окурки, прожигают кожу, всверливаются в тело. Над головой — минареты, болезненно тонкие, как ножки поганок, с характерными юбочками балкончиков. Они отвратительны.
Созерцатель бессмысленного побоища, свидетель чудовищной резни, я прошу лишь мгновения магии.
Мертвая ледяная луна выпала на алюминиевую миску неба, как зернышко из сита. Я держу старое решето в костлявых бледно-пурпурных руках. Я уже разлагаюсь на воспоминания. Я готов к священному инцесту со смертью.
Затемнение. Звон разбивающейся посуды.
Этот цвет всегда был таким. Во всяком случае, никто не помнит другого. Но даже если приглядеться к бровям, все равно невозможно понять, покрылись ли они инеем или, правда, седые. Почти прозрачны, искусственны. Такие приклеивают актерам в самодеятельных бродячих театрах. Их делают не то из тонкой лески, не то из ниток, и издалека они действительно немного похожи на настоящие, а их обладатель гордится своей убедительной внешностью. Но эти как раз наоборот: подлинные, но более всего напоминают подделку. Так же, как и колышущиеся над пергаментом морщинистого лица пепельные пряди. Под ними — истлевшие стеклянные глаза, все тот же угрюмо-усталый взор. Бесконечно долго можно смотреть в них, но все равно отведешь взгляд первым. Соперничество бессмысленно. Под зрачками застыли слезы. Немыми капельками взгнездились на подводящих выжженные глаза синяках. Застыли в раздумье. Или тоже заледенели, как брови? Хрустальные невидимые зерна. Сеятель разбрасывает их повсюду, даже на заведомо мертвую почву. Но удивительно — они всегда дают всходы. Эти ростки невероятно живучи. Хотя полностью покрыты льдом. Вглядись в лицо старика. Оно угасает в глубокой печали. Морщины, обтянутые жестким полиэтиленом отмирающей заиндевевшей кожи, переплелись густой паутиной, напоминая темные трещины, зияющие в сухой земле. Эти глубокие рытвины избороздили весь лоб, они делают его похожим на смятый мешок. Кажется — вот-вот, и лицо сползет с черепа мягкой маской, упадет под ноги, как кусок мокрого теста. Глаза, пронзая тебя насквозь, одновременно как будто пытаются спрятаться, а наряду с безразличием в них читается неподдельный ужас. Если ты попытаешься пожать руку старика, он не станет возражать, может даже едва заметно кивнуть головой, но останется безмолвен. Молчание уже давно стало его визитной карточкой. Ему не хочется произносить бессмысленных слов, он не считает общение хоть сколько-нибудь полезным занятием. Когда-то он любил крик — неистовый, всеобъемлющий, яростный. Только он способен был заглушить жгучую боль. Крик был последним, что у него оставалось. Он еще помнит о нем. Он считал его единственным шансом обрести присутствие. Почти никто, кроме старика даже не задумывался об этом. А старик знал с самого начала. Он не предвидел, он просто обладал знанием. И у него был крик. Вопль, разрывавший холодные каменистые сумерки. Он вложил в этот хриплый кромешный звук все естество, всю свою короткую жизнь. Он сражался до последней крупицы воздуха. Но со временем крик превратился в сдавленный кашель. И единственным выбором старика стало молчание. Такое же бескомпромиссное и отчаянное, как и крик. Старик безмолвствует. Его рот только изредка раскрывается — для глубокого вздоха. Иногда ему нравится втянуть в легкие морозный воздух, обрывки погибшего крика. Маленькая роскошь, которую он оставил себе. Маленькая слабость. Кажется, даже взгляд на мгновение становится не таким тусклым. Но это наверняка мерещится, ведь его взор не может меняться. Старик слеп. Он слеп с самого рождения. Но у него было знание. Оно и осталось, просто он решил ни с кем не делиться тайной, не разбивать знание на множество осколков. Ему достаточно было двух бесцветных кусочков льда в глазницах. Ледяные стекла были пологими только снаружи, изнутри же они всегда резали слабую изможденную плоть. Старику был хорошо знаком вкус собственной крови — кислый и терпкий. Временами ему даже нравилось проглатывать этот сок. Так же, как и слезы. Они возникали как крошечные эмбрионы, появлялись в самом центре, в самой глубине стеклянного зрака, и только позже вызревали в зернышки. Этот процесс не был быстрым, каждая слезинка рождалась в бесконечных муках. Слезы стали младшими сестрами крика. Крик никогда бы не полюбил их, но им повезло — они родились уже после его смерти. Однако они были во многом похожи на своего брата. Они были порождены одной и той же болью. Старик почти привык к боли, ставшей для него единственным доказательством того, что он не мертв. Других признаков жизни уже давно не наблюдалось. Но боль никогда не была свидетельством присутствия, нет, он не был настолько глуп, чтобы путать выживание с обретением присутствия. Ему было смешно, когда проходящие мимо смешивали эти понятия в один бесформенный сгусток. Эта истина казалась настолько очевидной для старика, что он не мог уразуметь факт бытования подобной нелепости. Конечно, он никогда не подавал виду, ни один миллиметр дряблой кожи не вздрагивал, хотя внутри все буквально тряслось от сумасшедшего хохота. Его смех свидетельствовал о невыносимой, смертельной боли. Но никто ни разу не слышал его смеха. Старик научился контролировать оболочку, доведя ее до состояния промерзшей корки. Это была его вторая тайна. Он не любил попусту растрачивать свое безумие. Когда шел дождь, старик едва сдерживал себя, чтоб не подставить свои бледные ладони под холодные струи. Он слышал дождь, внимал каждому шороху, каждому удару капель. Он хотел бы ловить их, а они ударялись бы о ладони и раскалывались, гибли и снова воскресали, разбрызгиваясь во все стороны, струясь сквозь пальцы. Это казалось ему красивым, напоминало крик. Ему не нужно было видеть красоту, чтобы судить о ней. Он никогда не любил зрячих. Иногда ему даже было их жалко. У них не было знания. Зрячие ненавидели дождь, при первых ударах грома, они начинали разбегаться, прятаться. А старик ощущал неповторимую красоту разбивающихся капель. Капли дождя были сродни росе — так же совершенны. При вспышках молний эти жемчужины переливались неоновым светом. Старик подозревал, что его ладони стали слишком мягки от времени — как вата, и капли не смогут разбиться об эту мякоть. Но он желал взять их в руки, сохранить, пусть бы даже они замерзли, как слезы в глазах, мечтал хоть на миг ощутить их обжигающее прикосновение. Однако эти действия были бы равносильны нарушению молчания, и потому старик оставался недвижим. Он научился контролировать оболочку. Беспощадно подчинил ее себе. Стеклянный взгляд разрезал холодные сумерки. Издалека сгорбленная фигура казалась приросшей к длинному забору. Он уже не помнил, как оказался под этой оградой. Но с тех пор старик никогда не покидал этого места. Он не решался встать, потому что его ссутуленная спина поддерживала один из пролетов старого забора. Заменяла собой один из сгнивших столбов. Если бы старик встал, то часть изгороди моментально бы обрушилась — остальные столбы, скорее всего, не выдержали бы. Ему не было жалко этой трухлявой ограды, совсем нет — наоборот, ему всегда хотелось узнать, существует ли что-либо по ту сторону. Старик не вставал по иной причине: он боялся, что весь забор обрушится прямо на него. Поэтому ненавистный пролет ветхой изгороди нелепым образом оказывался единственной гарантией его выживания. Старику не хотелось умирать. Внутри еще теплилось воспоминание о крике, и он не хотел терять его. Проходящие мимо иногда вовсе не замечали старика, а иные настолько привыкли к этому подпирающему забор силуэту, что уже не воспринимали его как живое существо. Старик был профессиональным актером. Но он понимал, что умрет, так и не осознав, существует ли что-либо по ту сторону ограды. Старик был слеп. Он не ведал, что за оградой — кладбище.

«Пустырь» – третий роман Анатолия Рясова, написанный в традициях русской метафизической прозы. В центре сюжета – жизнь заброшенной деревни, повседневность которой оказывается нарушена появлением блаженного бродяги. Его близость к безумию и стоящая за ним тайна обусловливают взаимоотношения между другими символическими фигурами романа, среди которых – священник, кузнец, юродивый и учительница. В романе Анатолия Рясова такие философские категории, как «пустота», «трансгрессия», «гул языка» предстают в русском контексте.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В мире, где даже прошлое, не говоря уже о настоящем, постоянно ускользает и рассыпается, ретроспективное зрение больше не кажется единственным способом рассказать историю. Роман Анатолия Рясова написан в будущем времени и будто создается на глазах у читателя, делая его соучастником авторского замысла. Герой книги, провинциальный литератор Петя, отправляется на поезде в Москву, а уготованный ему путь проходит сквозь всю русскую литературу от Карамзина и Радищева до Набокова и Ерофеева. Реальность, которая утопает в метафорах и конструируется на ходу, ненадежный рассказчик и особые отношения автора и героя лишают роман всякой предопределенности.
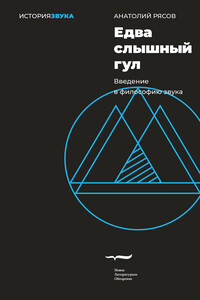
Что нового можно «услышать», если прислушиваться к звуку из пространства философии? Почему исследование проблем звука оказалось ограничено сферами науки и искусства, а чаще и вовсе не покидает территории техники? Эти вопросы стали отправными точками книги Анатолия Рясова, исследователя, сочетающего философский анализ с многолетней звукорежиссерской практикой и руководством музыкальными студиями киноконцерна «Мосфильм». Обращаясь к концепциям Мартина Хайдеггера, Жака Деррида, Жан-Люка Нанси и Младена Долара, автор рассматривает звук и вслушивание как точки пересечения семиотического, психоаналитического и феноменологического дискурсов, но одновременно – как загадочные лакуны в истории мысли.
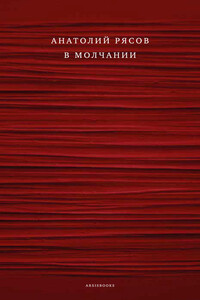
«В молчании» – это повествование, главный герой которого безмолвствует на протяжении почти всего текста. Едва ли не единственное его занятие – вслушивание в гул моря, в котором раскрываются мир и начала языка. Но молчание внезапно проявляется как насыщенная эмоциями область мысли, а предельно нейтральный, «белый» стиль постепенно переходит в биографические воспоминания. Или, вернее, невозможность ясно вспомнить мать, детство, даже относительно недавние события. Повесть дополняют несколько прозаических миниатюр, также исследующих взаимоотношения между речью и безмолвием, детством и старостью, философией и художественной литературой.

В книгу вошли небольшие рассказы и сказки в жанре магического реализма. Мистика, тайны, странные существа и говорящие животные, а также смерть, которая не конец, а начало — все это вы найдете здесь.

Строгая школьная дисциплина, райский остров в постапокалиптическом мире, представления о жизни после смерти, поезд, способный доставить вас в любую точку мира за считанные секунды, вполне безобидный с виду отбеливатель, сборник рассказов теряющей популярность писательницы — на самом деле всё это совсем не то, чем кажется на первый взгляд…

Книга Тимура Бикбулатова «Opus marginum» содержит тексты, дефинируемые как «метафорический нарратив». «Все, что натекстовано в этой сумбурной брошюрке, писалось кусками, рывками, без помарок и обдумывания. На пресс-конференциях в правительстве и научных библиотеках, в алкогольных притонах и наркоклиниках, на художественных вернисажах и в ночных вагонах электричек. Это не сборник и не альбом, это стенограмма стенаний без шумоподавления и корректуры. Чтобы было, чтобы не забыть, не потерять…».

В жизни шестнадцатилетнего Лео Борлока не было ничего интересного, пока он не встретил в школьной столовой новенькую. Девчонка оказалась со странностями. Она называет себя Старгерл, носит причудливые наряды, играет на гавайской гитаре, смеется, когда никто не шутит, танцует без музыки и повсюду таскает в сумке ручную крысу. Лео оказался в безвыходной ситуации – эта необычная девчонка перевернет с ног на голову его ничем не примечательную жизнь и создаст кучу проблем. Конечно же, он не собирался с ней дружить.

У Иззи О`Нилл нет родителей, дорогой одежды, денег на колледж… Зато есть любимая бабушка, двое лучших друзей и непревзойденное чувство юмора. Что еще нужно для счастья? Стать сценаристом! Отправляя свою работу на конкурс молодых писателей, Иззи даже не догадывается, что в скором времени одноклассники превратят ее жизнь в плохое шоу из-за откровенных фотографий, которые сначала разлетятся по школе, а потом и по всей стране. Иззи не сдается: юмор выручает и здесь. Но с каждым днем ситуация усугубляется.

В пустыне ветер своим дыханием создает барханы и дюны из песка, которые за год продвигаются на несколько метров. Остановить их может только дождь. Там, где его влага орошает поверхность, начинает пробиваться на свет растительность, замедляя губительное продвижение песка. Человека по жизни ведет судьба, вера и Любовь, толкая его, то сильно, то бережно, в спину, в плечи, в лицо… Остановить этот извилистый путь под силу только времени… Все события в истории повторяются, и у каждой цивилизации есть свой круг жизни, у которого есть свое начало и свой конец.