Прегрешение - [22]
— Ты себя хорошо чувствуешь?
— Да, я себя хорошо чувствую.
В последнюю ночь она вдруг проснулась и потом уже не смогла заснуть. Фонарь, где-то там за окном, бросал в комнату тусклый свет. Женщина на соседней койке громко храпела. Сперва этот храп не мешал Маше, но потом эта женщина и ее громкое, неравномерное дыхание вызвали у нее отвращение. Мысли ее обратились к ребенку, которого больше в ней не было. Девочка, как сказала сестра.
Маша почувствовала, что ее тошнит, встала и подошла к открытому окну. Да что же это, подумала она, и ей захотелось, чтобы Хербот завтра не приходил, чтобы он вообще убрался восвояси.
Но Хербот явился в условленное время и отвез ее в общежитие, а общежитие ее страшило, эти пытливые взгляды, полунамеки. Девочек не обманешь. Многие из них сами прошли через это.
На прощанье Хербот сказал:
— Если только ради меня, ты могла этого и не делать.
И каждый был рад, что ему не надо больше терпеть общество другого.
Спустя два дня Хербот заявился в общежитие и вызвал Машу из комнаты. На комбинате ему рассказали про визит Элизабет Бош.
— Все, что произошло, касается только нас двоих, и больше никого, — возмущенно, с ходу выпалил он. — Комбинат ты к этому делу не припутывай.
Он никак не хотел верить, что Маша ничего матери не рассказывала. С чего тогда мать побежала на комбинат?
Маша тоже не могла объяснить поведение матери и вполне разделяла гнев Хербота, хотя, конечно, ей не нравился тон, каким он говорил про ее мать.
— А пошел ты куда подальше! Можешь думать что хочешь, — крикнула Маша и, с трудом сдерживая слезы, убежала.
На другое утро она снова решила прогулять, как уже не раз бывало за последнее время, и поехала в деревню с твердым намерением сказать матери, чтобы та не совалась в ее дела, потому что она, Маша, и сама знает, что, где и зачем.
Элизабет сидела в своем кресле у окна, она ничем не могла заняться. Болел затылок, болела спина, колени. Она увидела, как идет по улице Маша, и подумала: «Хорошо, что она нашлась, дольше я бы просто не вынесла». Она бросилась навстречу дочери и прижала ее к себе.
— Где ты пропадаешь?
Вид матери испугал Машу. Нельзя ей рассказывать про ребенка, подумала она. Да и зачем?
— Я тебе поесть приготовлю.
— Неохота.
— Ну, тогда кофе.
— Мне сразу же обратно.
Маша почувствовала, как к горлу опять подкатывает эта мерзкая тошнота, ее состояние после больницы ухудшилось. Маша купила себе плюшевую зверушку и на ночь укладывала рядом с собой, сама понимала, что это ребячество, но все-таки укладывала.
— Мама, не вмешивайся в мои дела, — сказала она, — очень тебя прошу: не вмешивайся.
Голос у нее дрожал. «Зря я сюда приехала, — думала она. — Все равно мать не поймет».
— Ты ничего мне не рассказываешь, — ответила Элизабет, — а я боюсь.
— Не вмешивайся, ты все испортишь.
— Что испорчу?
«Какой у нее взгляд, — подумала Маша, — это же надо, какой взгляд, только нечего ей так на меня глядеть и вообще пусть оставит меня в покое. Пусть все оставят меня в покое, Хербот, мать, Ханс, университет с его дурацкими лекциями и семинарами, я куда-нибудь уеду; только пусть оставят меня в покое».
Она собрала вещички и побросала в чемодан все подряд, что подвернулось под руку.
— Нельзя же так, — сказала мать, — не можешь ты просто так взять и уйти, просто взять и уйти.
Маша ничего не ответила. Элизабет слышала, как захлопнулась дверь. Мыслей в голове не было никаких, только горло сдавила судорога, грозя задушить. Потом изнутри прорвался какой-то крик. Она никогда не слышала у себя такого голоса. Заглушить свой крик она не могла и втиснула лицо в подушку.
В тот же день Элизабет Бош получила от Якоба Алена письмо, где он писал, что сделал в доме новые окна. Теперь у него просторно и светло. И еще он срубил дерево, чтоб не затеняло террасу.
И в тот же самый день Элизабет Бош начала запираться от людей у себя в квартире, она не открывала ни на стук, ни на звонки, никому. Она стояла у окна, притаясь за гардиной, глядела на улицу и ждала, сама не ведая чего. Прошлое обрушилось на нее, слишком много прошлого: заброшенный поселок в Богемии, мокрая от росы трава, запах мяты и разогретые солнцем валуны. Умирает все, думала женщина, умирает время, умирает небо, лес, поля. И еще, подумала она, раз уж человек приходит в этот мир, должно быть хоть что-нибудь, ради чего стоит жить на земле. Пока муж был жив, он хотел вовремя получать завтрак, обед и ужин, а по субботам после выпивки ложился с ней в постель. Ей это было по нраву. Дети тоже требовали самокат, велосипед, мопед. Но ведь не ради этого живет человек, думала она, господи, не может быть, чтоб только ради этого. И ей вдруг почудилось, будто на свете не осталось больше ни одной живой души, только она, Элизабет, у своего окна.
Вскоре после этого Элизабет Бош увидела во сне, будто под окном у нее стоит Якоб Ален. И выглядит он совсем как ее покойный муж: прищуренные глаза, щетина на лице, бледные губы. Он глядел на нее и молчал. А когда она спросила: «Как поживаешь?» — он протянул руку, ту, без двух пальцев. Тут небо вдруг пожелтело, будто перед грозой. Вороны, подхваченные ветром, обрушились на деревню, словно черный дождь. Она подбежала к Якобу Алену, — а может, это был не Якоб, а ее муж? — но тот отпрянул в желтый предгрозовой свет. Она открыла глаза, и странное чувство ею овладело: будто она раздвоилась. «Они разорвут меня на части», — подумала Элизабет.

На всю жизнь прилепилось к Чанду Розарио детское прозвище, которое он получил «в честь князя Мышкина, страдавшего эпилепсией аристократа, из романа Достоевского „Идиот“». И неудивительно, ведь Мышкин Чанд Розарио и вправду из чудаков. Он немолод, небогат, работает озеленителем в родном городке в предгорьях Гималаев и очень гордится своим «наследием миру» – аллеями прекрасных деревьев, которые за десятки лет из черенков превратились в великанов. Но этого ему недостаточно, и он решает составить завещание.

Книга для читателя, который возможно слегка утомился от книг о троллях, маньяках, супергероях и прочих существах, плавно перекочевавших из детской литературы во взрослую. Для тех, кто хочет, возможно, просто прочитать о людях, которые живут рядом, и они, ни с того ни с сего, просто, упс, и нормальные. Простая ироничная история о любви не очень талантливого художника и журналистки. История, в которой мало что изменилось со времен «Анны Карениной».
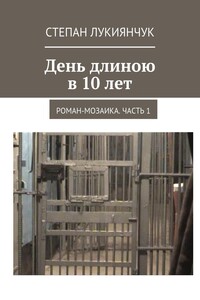
Проблематика в обозначении времени вынесена в заглавие-парадокс. Это необычное использование словосочетания — день не тянется, он вобрал в себя целых 10 лет, за день с героем успевают произойти самые насыщенные события, несмотря на их кажущуюся обыденность. Атрибутика несвободы — лишь в окружающих преградах (колючая проволока, камеры, плац), на самом же деле — герой Николай свободен (в мыслях, погружениях в иллюзорный мир). Мысли — самый первый и самый главный рычаг в достижении цели!

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В жизни каждого человека встречаются люди, которые навсегда оставляют отпечаток в его памяти своими поступками, и о них хочется написать. Одни становятся друзьями, другие просто знакомыми. А если ты еще половину жизни отдал Флоту, то тебе она будет близка и понятна. Эта книга о таких людях и о забавных случаях, произошедших с ними. Да и сам автор расскажет о своих приключениях. Вся книга основана на реальных событиях. Имена и фамилии действующих героев изменены.
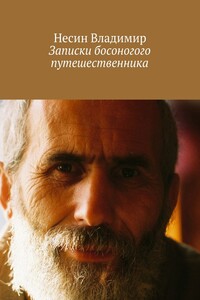
С Владимиром мы познакомились в Мурманске. Он ехал в автобусе, с большим рюкзаком и… босой. Люди с интересом поглядывали на необычного пассажира, но начать разговор не решались. Мы первыми нарушили молчание: «Простите, а это Вы, тот самый путешественник, который путешествует без обуви?». Он для верности оглядел себя и утвердительно кивнул: «Да, это я». Поразили его глаза и улыбка, очень добрые, будто взглянул на тебя ангел с иконы… Панфилова Екатерина, редактор.