Предел забвения - [7]
Но дачники судили мерками не города даже, а дачной жизни. Обладание дачей в те времена и среди тех людей воспринималось как своего рода амнистия, отпущение прошлого, каким бы оно ни было; не мнимых или действительных грехов, а прошлого как такового.
Прошедшая жизнь становилась угощением, которое можно подать как нечто необременительно вкусное к чаю, к вечерней беседе; на дачах поселялись жить, чтобы пересмотреть память, в ретроспективном взгляде переустроить ее, тщательно и разборчиво увериться в доброкачественности прожитого. Дачники чувствовали неопределенное сходство судеб, сродство отношения к жизни; оказавшись в соседстве друг с другом, они внезапно обнаружили себя как общность: им всем было что забывать, что подчистить в прошлом; и дачное существование в этом смысле воспринималось как другая — следующая за уже прожитой и отдельная от нее — жизнь.
Вряд ли среди того, о чем они хотели бы не помнить, были нравственно непоправимые поступки. Нет, скорее само положение средней руки начальства, предполагавшее чуть большую нравственную конформность, чем та, которую человек может проявлять, не вступая в объяснения с самим собой, — вынуждало их теперь приосаниться, преобразиться в моложавых стариков, которые неизвестно как стали стариками, — стариков пустых, от которых веяло чрезмерным вниманием к телесному, какое бывает у атлетов. Они были теми абстрактными «пожилыми людьми», которым надо уступать место в электричке и автобусе, картинкой к соответствующей строке в правилах проезда.
И конечно, вопрос, кем когда-то был Второй дед, просто не мог прозвучать в этом кругу — звук не встретил бы воздуха; там все были приличными людьми, и это словосочетание — приличный человек, не достойный, не хороший, а именно приличный — было высшей дачной похвалой. В сущности, это и объединяло всех дачников: они сумели выйти из непростого времени приличными людьми — то есть людьми, о которых в силу разных причин никто не скажет ничего дурного.
На первый взгляд дачи были оазисом, островком умиротворения, спокойствия, дружественности. Но дети — дети чувствовали, что все это показное, напускное: нас слишком жестко и ревностно воспитывали, не зная ни прощения, ни пощады в нравственных вопросах. В головах у взрослых была четко очерченная область затмения, и если это затмение наступало — украл, солгал, не выполнил обещания, то наказание было столь несоответствующим — не по жестокости, а по готовности отказаться от сына или дочери, мгновенно стать им чужими людьми, — что казалось, будто это не ребенок, а враг, обманом проникший в семью, подменыш из роддома.
Родные разыгрывали целую сцену: наш ли это сын? наша ли это дочь? И я помню, как один мой товарищ, восьми лет от роду, не выдержав этих вопросов, — разбиралось дело о краже слив, — вдруг подступил к своим родителям и стал громко, в голос, твердить: я ваш сын! я ваш сын! я ваш сын! — и они отступили, они не знали, что делать с мальчиком, трясшимся, потерявшим расстегнувшуюся сандалию, кричавшим без злости, без упрямства, с внезапной твердостью слабого: я ваш сын! я ваш сын! я ваш сын! — они, взрослые, боялись в этот момент восьмилетнего ребенка, стояли, мать, отец и хозяин сада, пока мальчик не сник, не забрался в канаву и не заплакал.
Детей словно бы готовили для жизни, в которой каждый проступок плох не сам по себе, а потому, что он бросает тень на родных, заставляет присмотреться к ним — кто вырастил ребенка таким? — а родные очень не хотели бы, чтобы к ним присматривались; в результате возникала выморочная нравственность, и все пропиталось взаимным корректным двуличием: призыв не лгать, сопровожденный страхом, только умножает ложь и заставляет ухищряться в ней.
Детство на тех дачах — их давно уже нет, они стали пригородом, поменялись дома, обновились, стали глухими заборы, — детство было школой двоедушия; я не могу в полной мере отнести это к своей семье, к семьям некоторых из моих товарищей — но общее поле отношений было таким. Каждый из нас, дачных детей, в той или иной степени вел двойную жизнь; и речь не о потайных проказах, нарушении запретов, умолчаниях и вынужденной скрытности. Мы — каждый по-своему — были преданы родными, слишком ясно видевшими каких-то других детей, которыми мы не были, но должны были стать.
Впрочем, я-то благодарен детству; если бы не усиленная почти до шизофрении наука раздвоения личности на того, кто был сыном, внуком, племянником, сыном друзей, мальчиком-с-участка-напротив, и на себя самого, я бы не стал тем, кем я стал; и уж конечно я бы не смог разглядеть, уловить настоящую натуру Второго деда.
Однажды — я забегаю вперед — я понял, наивно, по-детски, что взгляд — это зеркало; мы видим не людей, а то, как люди отражаются в нас; мне казалось, что я открыл тайну и оставалось только уяснить, как же пройти за собственный взгляд, как увидеть то, чего, по идее, ты видеть не можешь.
И вот, обдумывая это, я начал играть со своей тенью: старался встать так, чтобы по ней нельзя было узнать, что ее отбрасываю именно я; подходил к яблоневому пню, бочке, пугалу, втягивал голову в плечи, прятал руки, стараясь, чтобы моя тень повторяла их тени; играл несколько дней, выбирая время вечером, когда тени четче, гуще и длиннее, играл бездумно, не замечая времени. И вдруг, уже устав и только дурачась, обернулся — и замер: у меня была

Когда совершено зло, но живые молчат, начинают говорить мертвые – как в завязке “Гамлета”, когда принцу является на крепостной стене дух отравленного отца. Потусторонний мир, что стучится в посюсторонний, игры призраков – они есть голос нечистой совести минувших поколений. “Титан”, первый сборник рассказов Сергея Лебедева – это 11 историй, различных по времени и месту действия, но объединенных мистической топографией, в которой неупокоенное прошлое, злое наследие тоталитарных режимов, всегда рядом, за тонкой гранью, и пытается свидетельствовать голосами вещей, мест, зверей и людей, взыскуя воздаяния и справедливости. Книга содержит нецензурную брань.

Дебютант – идеальный яд, смертельный и бесследный. Создавший его химик Калитин работал в секретном советском институте, но с распадом Союза бежал на Запад. Подполковник Шершнев получает приказ отравить предателя его же изобретением… Новый, пятый, роман Сергея Лебедева – закрученное в шпионский сюжет художественное исследование яда как инструмента советских и российских спецслужб. И – блестящая проза о вечных темах: природе зла и добра, связи творца и творения, науки и морали.

1991 год. Август. На Лубянке свален бронзовый истукан, и многим кажется, что здесь и сейчас рождается новая страна. В эти эйфорические дни обычный советский подросток получает необычный подарок – втайне написанную бабушкой историю семьи.Эта история дважды поразит его. В первый раз – когда он осознает, сколького он не знал, почему рос как дичок. А второй раз – когда поймет, что рассказано – не все, что мемуары – лишь способ спрятать среди множества фактов отсутствие одного звена: кем был его дед, отец отца, человек, ни разу не упомянутый, «вычеркнутый» из текста.Попытка разгадать эту тайну станет судьбой.

Новый роман Сергея Лебедева воспринимается как продолжение предыдущего («Предел забвения»), хотя они не связаны ни общими героями, ни единой сюжетной линией. Однако своего рода метасюжет объединяет их. По большому счету, «Год кометы» — роман о страхе как одной из подлинных «скреп», которые сковывали советскую действительность, превращали ее в неподвижную крепость. И в той же мере это роман о разрушении монолита, об освобождении от ужаса. Но прежде всего это история детства и отрочества в последние годы советской империи.

Россия и Германия. Наверное, нет двух других стран, которые имели бы такие глубокие и трагические связи. Русские немцы – люди промежутка, больше не свои там, на родине, и чужие здесь, в России. Две мировые войны. Две самые страшные диктатуры в истории человечества: Сталин и Гитлер. Образ врага с Востока и образ врага с Запада. И между жерновами истории, между двумя тоталитарными режимами, вынуждавшими людей уничтожать собственное прошлое, принимать отчеканенные государством политически верные идентичности, – история одной семьи, чей предок прибыл в Россию из Германии как апостол гомеопатии, оставив своим потомкам зыбкий мир на стыке культур.

Книга первая. Посвящается Александру Ставашу с моей горячей благодарностью Роман «Дискотека» это не просто повествование о девичьих влюбленностях, танцульках, отношениях с ровесниками и поколением родителей. Это попытка увидеть и рассказать о ключевом для становления человека моменте, который пришелся на интересное время: самый конец эпохи застоя, когда в глухой и слепой для осмысливания стране появилась вдруг форточка, и она была открыта. Дискотека того доперестроечного времени, когда все только начиналось, когда диджеи крутили зарубежную музыку, какую умудрялись достать, от социальной политической до развеселых ритмов диско-данса.

Этот несерьезный текст «из жизни», хоть и написан о самом женском — о тряпках (а на деле — о людях), посвящается трем мужчинам. Андрей. Игорь. Юрий. Спасибо, что верите в меня, любите и читаете. Я вас тоже. Полный текст.

Книга представляет собой оригинальную и яркую художественную интерпретацию картины мира душевно больных людей – описание безумия «изнутри». Искренне поверив в собственное сумасшествие и провозгласив Королеву психиатрии (шизофрению) своей музой, Аква Тофана тщательно воспроизводит атмосферу помешательства, имитирует и обыгрывает особенности мышления, речи и восприятия при различных психических нарушениях. Описывает и анализирует спектр внутренних, межличностных, социальных и культурно-философских проблем и вопросов, с которыми ей пришлось столкнуться: стигматизацию и самостигматизацию, ценность творчества психически больных, взаимоотношения между врачом и пациентом и многие другие.
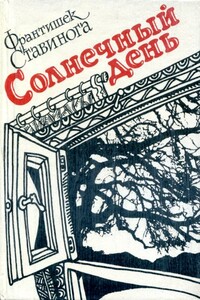
Франтишек Ставинога — видный чешский прозаик, автор романов и новелл о жизни чешских горняков и крестьян. В сборник включены произведения разных лет. Центральное место в нем занимает повесть «Как надо умирать», рассказывающая о гитлеровской оккупации, антифашистском Сопротивлении. Главная тема повести и рассказов — проверка людей «на прочность» в годину тяжелых испытаний, выявление в них высоких духовных и моральных качеств, братская дружба чешского и русского народов.

История акушерки Насти, которая живет в Москве в недалеком будущем, когда мужчины научатся наконец сами рожать детей, а у каждого желающего будет свой маленький самолетик.