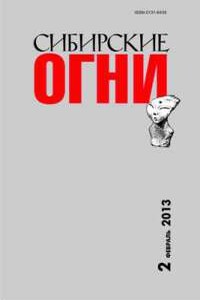Сэнди, чернея трагической долговязой фигурой, встал к флажку — правое плечо вперед! — выцеливая расстояние. Толик сидел на пеньке и облупливал скорлупу. Я глотнул водки, закусил круто посоленным яичком, крякнул, и тотчас туман рассеялся. По этому знаку от ближайшей сосны отделился секундант, икнул и бросил монетку вверх. Стрелять первым выпало Сэнди — он зачем-то дунул в дуло нагана, обтер патрон о ляжку и вложил его в барабан. Стороны обменялись любезностями.
— К барьеру! — слабо крикнул мой коллега, снова икнув.
Толик не спеша выцедил полстакана водки, смахнул крошки яичного желтка с груди, посмотрел в пустое небо, сплюнул и встал к флажку.
Сэнди, расправив узкие плечи, задержал дыхание и взвел курок…
Пронзительный крик разорвал кладбищенскую тишину. Из-за пригорка вывалилась женская фигура в коротком байковом халате и, посеменив длинными стройными ногами, с ходу припала к груди любимого. Сверкая прекрасными очами, заслонила собой дуэлянта и рванула на себе халатик, ослепив белыми, как снег, грудями. Гаркнула по-вороньи: «Стреляй, сволочь!» Зрелище не для слабонервных. Сэнди опустил пистолет и пошел прочь. За ним поплелся секундант.
— Эй, Сэнди, выстрел за тобой, слышишь! — оттолкнул жену Толик.
Закончилась вся эта история горько.
Толика, возвращавшегося домой в подпитии, подстрелили возле собственного подъезда. В городе болтали всякое. Что с Ссальником свели счеты то ли вышедшие на волю дружки, то ли бывший хахаль сожительницы, то ли все враги разом.
Весь последний год, с короткими перерывами, Толя провалялся на больничной койке. Врачи делали осторожные прогнозы. И Ссальник принял решение. Во время тихого часа он ушел из больницы в тапочках. После регистрации в загсе мы в узком кругу посидели у молодоженов дома. Из секунданта я переквалифицировался в свидетеля со стороны жениха. На фоне новых обоев невеста выглядела потрясающе. Сэнди прислал поздравительную открытку. Света то и дело бегала на кухню смотреть, не пригорел ли торт… И, прожевав сладкий кусок, я крикнул: «Горько!» Толик встал, бледный, что смерть, старенький пиджак болтался на нем как на вешалке. Жена, выше законного мужа на полголовы, склонилась и тихо сказала Толику: «Раскрой рот, шизик!» Супруги поцеловались взасос.
Провожая гостей, Света включила свет в прихожей и попросила совета. Не вписать ли ей в новом паспорте вместе с новой мужниной фамилией свое настоящее имя — Стелла. Стелла красивее, но Толе не нравится. Говорит, имя, как у бл… — Света запнулась, — как у благородной дамы. Может, я бы с ним поговорил? Толик меня бы послушался. Он образованных уважает. Или остаться Светой? Суть-то одна и та же. Стелла значит звезда, а звезда — это свет…
Толика хоронили зимой. На Стеллу было страшно смотреть, и я не смотрел. Снег падал крупными хлопьями, я шел за гробом, придавленный чувством вины, и утешал себя: пусть у нас так — горько, нескладно, да и ведь жизнь наша нескладная, и пускай кто угодно бросит в меня камень, но история Толика и Светы-Стеллы — история настоящей любви. А настоящая любовь, мужики, это мука. Вот Толик и отмучился. Удо.
Его звали, кажется, Сергей, ну да, Серега-Слон. Росли в одном дворе, и Слон этот был примечателен тем, что изо всех сил стеснялся своих ушей — больших, торчком, а края ушных раковин чуть загибались книзу, как у слоненка, особенно после стрижки «бокс». Вислые мочки, сморщенные раковины, если смотреть против солнца — в синеватых прожилках. Наверное, полдвора сбегалось глазеть на Серегины уши после его визита в парикмахерскую.
Когда спустя четверть века поздним дождливым вечером я открыл дверь на робкий звонок, то сразу его узнал. Конечно, он здорово изменился относительно своего сопливого отрочества. Ну, подрос, ясное дело, обзавелся усами, морщинами и железными зубами — Серегой тут и не пахло. Но уши!..
Едва он приподнял обвисшие края шляпы, я оборвал его церемонное вступление: «Заползай, Серый!» Кажется, я обрадовался этому посеченному дождем и жизнью субъекту, посланцу чужих миров, фантому, материализовавшемуся из дворовых драк «до первой крови» и пыли футбольных баталий до глубоких сумерек. Он возник из сумерек и уйдет в сумерки, дождь смоет следы, — до следующего, лет через двадцать с гаком, звонка в дверь. Если буду жив, естественно. Но это неважно. Детство и любовь к женщине — суть одно и то же.
Он снял туфли и прошел на кухню в носках, оставляя темные отметины на линолеуме. Смутившись, вытащил из глубины подмышек бутылку водки: жена не будет против? Жена была не против: она укатила по турпутевке в Югославию, тогда там еще не было войны. Собственно, говорить было не о чем. О чем можно говорить со своим полузабытым детством? Об обезумевшей кошке, к хвосту которой привязали пустую консервную банку? О первой выкуренной сигарете в вонючей общественной уборной, после которой стошнило; о вполне невинном мальчиковом разврате на чердаке барака, в котором жили; о коллекции марок, проигранной в ножички; о бублике с маком, который отобрал более сильный?.. Он и этого, по-моему, не помнил. Морщил лоб, улыбался, мерцая в полумраке кухни железными зубами, и поспешно кивал ушами. Какой там бублик с маком — дырка от бублика!