Пречистенка. Прогулки по старой Москве - [4]
Правда, уже после революции картину чуточку обидели. Когда художник Павел Корин делал с нее копию, ему все тот же «Толя Виноградов» неожиданно велел переместиться в другое, значительно менее удобное место. Мотивации были на первый взгляд весьма пристойными — якобы первоначальное место художника располагалось рядом с лестницей, и бедный Корин мог в любой момент свалиться вниз. Конечно, Корину пришлось послушаться, и в результате копия вышла чуть хуже, чем могла бы.
А оригинал в конце концов обрел почет и уважение в самом главном музее русской живописи — «Третьяковке». Впрочем, еще до революции ее пытались разыскать в первую очередь в собрании Павла Михайловича Третьякова — казалось странным, что такое примечательное полотно может находиться в ином месте.
Экскурсоводы «Третьяковки» любят рассказывать об одном забавном случае. Однажды у картины задержалась парочка восторженных провинциалов. Они весьма подробно обсудили все детали полотна. Разобрались во всем — одно лишь было непонятно: где именно Христос является народу. В итоге одного из мужичков осенило:
— Видишь горы сзади?
— Вижу.
— То-то же. Значит, Урал.
Так получил народ «слово свободы», о котором вожделел художник Репин.
* * *
Самым же маститым из читателей библиотеки был Владимир Ильич Ленин. Первый визит состоялся еще в 1893 году. Ленин расписался в книге посетителей: «Владимир Ульянов». Затем вспомнил про конспирацию и приписал на всякий случай: «Помощник присяжного поверенного». Подумал и указал адрес: «Б. Бронная, д. Иванова, кв. 3». Никаким помощником поверенного Ильич на самом деле не был, да и жил в то время не на Бронной, а в Большом Палашевском переулке.
Бывал он здесь и в 1897 году. «Даже те три дня, на которые ему разрешено было остановиться в родной семье, в Москве, ухитрился использовать частично для занятий в Румянцевской библиотеке», — вспоминала его сестра Анна Ильинична.
Однако же образ старательного посетителя библиотек за Ильичем был закреплен на всю оставшуюся жизнь. Действовал он и после смерти — в 1925 году библиотека стала не Румянцевской, а Ленинской. И поэт В. Семернин тешил своих читателей:
Спору нет, Ленин был усидчивым читателем. Но предпочитал для этих целей свой уютный кабинет в Кремле.
* * *
В это же время собственно в библиотеке подвизались личности весьма оригинальные. Один из сотрудников, Н. И. Ильин, писал: «В отделении рукописей прочно и бессменно сидел некий Г. П. Георгиевский, цепко державший в своих руках фактическую монополию на опубликование рукописных материалов из собраний музея. Подписанные его именем, не всегда грамотные публикации можно встретить в разных научных изданиях, журналах и сборниках на протяжении почти 40 лет. Георгиевский, как дракон, охранял доступ к неиспользованным рукописям музея от сторонних лиц. Большой знаток старинной церковной рукописи, он имел связи среди старообрядцев и оказывал им взаимные, конечно, услуги».
Вторил господину Ильину и библиограф М. К. Соколовский: «Во-первых, чиновничье мракобесие. Ему предлагают, например, рассмотреть лежащий в запечатанных ящиках архив коллекционера В. С. Арсеньева, а он отвечает, что пусть десять лет лежат дела в ящиках, и никому до этого дела нет. Во-вторых, крайне пристрастное отношение к занимавшимся. Кто в фаворе у него, тому все дозволяется. Кого он не жалует, тот должен часами ждать, пока гражданин Георгиевский соблаговолит прочитать тридцать писем какого-нибудь корреспондента. Никакой обязательности, никакой научной услуги. Вместо человека — какой-то архивный сухарь. Воображаю, какой нетерпимый, задорный тон принимает он теперь, когда в его рукописное отделение ходят работать молодые ученые, перед которыми он, конечно, разыгрывает роль архивного гранда и рукописного магната».
После революции библиотеку трясло, как, впрочем, и все государство. Кризис, надо заметить, начался еще в преддверии двадцатого столетия. Дарителей было довольно много, а пространство ограничено. В одном из отчетов было не без юмора отмечено: «Недалеко то время, когда всякое новое пожертвование будет для библиотеки не желанным даром, а тяжким бременем, ибо пожертвованным книгам придется за неимением помещения лежать в ящиках».
В 1913 году, когда все государство праздновало 300-летие Дома Романовых, музей чуть было не уничтожили. То есть, в прожектах все выглядело довольно благостно. Главный музей Первопрестольной было решено сделать еще более главным. Оборудовать там новые разделы, от искусств весьма далекие — этнографический, сельскохозяйственный, военный, морской, земский и тому подобные. Иными словами, представить русскую жизнь во всей красе и величии.
В проекте указывалось: «Национальный Музей должен стремиться представить общую картину русской природы и культуры в их наиболее важных моментах и типических формах, и его основная задача будет не столько в специальной разработке отдельных областей знания, сколько именно в этой органической всесторонности изображения».
К счастью, этот «замечательный» проект реализован не был. Во-первых, потому, что за музей вступилась московская интеллигенция, во-вторых, просто из-за того, что руки не дошли. Музей всего лишь продолжал стонать от поступления новых экспонатов.
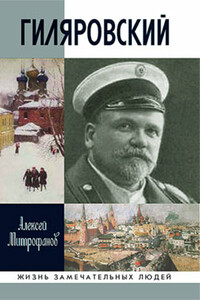
Эта книга посвящена «королю репортеров», мастеру газетных сенсаций Владимиру Алексеевичу Гиляровскому (1855—1935). С именем этого человека связаны самые невероятные истории, приключения, легенды и даже мистификации. За свою долгую жизнь он сменил много профессий — был бурлаком, крючником, театральным актером, цирковым наездником и борцом, табунщиком, участвовал в Русско-турецкой войне, но прославился как журналист и бытописатель, а еще сочинитель экспромтов. Своим обаянием, душевностью, искрометным умом и юмором он буквально притягивал к себе людей.
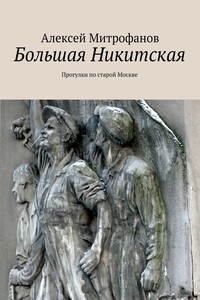
Большая Никитская – улица особенная. В отличие от большинства центральных радиусов города, здесь очень мало магазинов. Что же вместо? Московский университет. Консерватория. Театр Маяковского. Дом литератора. Здесь, разумеется, и публика совсем другая.
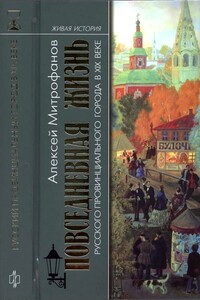
Повседневность русской провинции XIX века блестяще описана в произведениях Салтыкова-Щедрина, Лескова, Чехова, Горького. Но нарисованная классиками картина неизбежно остается фрагментарной, не совпадая с трудами историков и статистическими данными. Совместить оба этих взгляда — литературный и исторический — призвана новая книга известного журналиста и телеведущего Алексея Митрофанова, увлекательно рассказывающая обо всех сферах жизни губернских и уездных городов, о быте и нравах их жителей, о постепенных изменениях в городском хозяйстве и укладе в период между реформами 1860-х годов и революцией 1905 года.
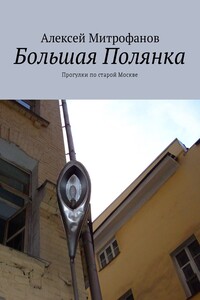
Замоскворечье всегда отставало от времени. Причина тому кроется в самом названии. Замоскворечье – значит за Москвой-рекой. То есть не в главной части города, а на отшибе. Тем более, что именно оттуда, с юга, чаще всего приходили монголо-татарские завоеватели. И, разумеется, селиться там мудрый москвич не торопился.
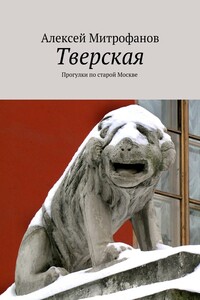
Тверская – самая главная улица Москвы, и это бесспорно. Здесь больше всего людей, машин, кафе, рекламы, ресторанов, магазинов. Здесь самые нарядные витрины и самые забористые цены. Днем здесь самые спешащие прохожие, а ночью – самые неспешные. Здесь в самых жутких пробках стоят самые роскошные автомобили. Богачи тут самые богатые, а бедняки самые жалкие. Характер Тверской улицы сложился не сейчас, в далеком прошлом. Вот об этом прошлом мы сегодня и поговорим.

Очередная книга серии «Прогулки по старой Москве» посвящена Покровке. Этот путь берет начало от самых главных кремлевских ворот – Спасских, рядом с которыми размещается самый красивый московский собор – храм Василия Блаженного. Мы пройдем мимо Биржи, мимо часовни в память плевненским героям, мимо «домика-комода» – самого необычного дворянского особняка Москвы. Мимо садика имени Баумана, в котором стоял флигель Чаадаева…
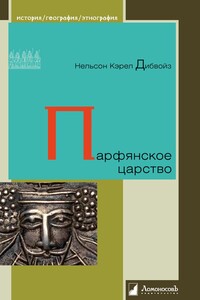
Крупнейший американский историк Нельсон Дибвойз по крупицам, основываясь на свидетельствах античных авторов, данных археологии и нумизматики, воссоздал историю одной из величайших империй древности — Парфянского царства. В лучшую пору своего существования Парфия вбирала в себя территории современных Ирана, Ирака, Афганистана, Пакистана и Туркменистана и соперничала с другой великой империей — Римской. Весной 53 года до н. э. парфяне в битве при Каррах нанесли жестокое поражение римской армии Марка Лициния Красса и к 40 году до н. э.
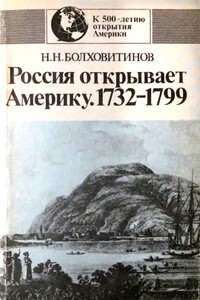
К 500-летию открытия Америки В книге рассказывается об открытии Америки со стороны России в первой половине XVIII в., о деятельности русских промысловых экспедиций, об основании первых русских поселений и, наконец, учреждении Российско-американской компании в 1799 году. Подробно анализируются русско-американские научные и культурные связи. Специальный раздел посвящен отношению России к Американской революции XVIII в. В основе книги лежат материалы советских и американских архивов, а также обширная документация на основных европейских языках.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.