Праздник побежденных - [25]
Он плакал навзрыд, а в темноте придвинулось бледное и серьезное лицо старичка. Над черной изгородью леса стояла луна, а мы лежали уж обнявшись, вздрагивая в кошмарной ночи, последней ночи.
— Так ты простил? — спросил он.
— Конечно, — зашептал я, — давно, когда ты пел.
— Слава тебе, Господи, — он, с великим облегчением, стоя на коленях осенил себя широким крестом и потом, гладя мою руку и косясь в темень, торжественно прошептал: — Скоро она придет, смерть моя, я слышу ее дыхание, и это избавление, там летают голубые стрекозы, там текут реки голубые, и там оранжевый свет. Ты веришь?
Я согласился.
— Мы с тобой два василька под голубым русским небом. И я тебе скажу секрет, в тайне держал, но тебе скажу, — шепчет он.
В лунном снопе его лицо печально и торжественно.
— Ко мне приходил Христос. Вечером приходил. Тихо так полог на телеге отвел и сказал Спаситель: Не плачь, встань и спой для него, и ботинок свой отдай, он как раз по ноге ему… Ты веришь?
Ванятка еще говорил какие-то прекрасные слова, потом умолк, а мир и время остановились для меня, и луна прекратила свой тихий ход, и голубые тени за решеткой мертвы и неподвижны, и черный лес хранил узор. Неподвижен и Ванятка с закушенной рукой.
Я переполнен тихой радостью, боюсь спугнуть святую тишину. Взламывает ее Ванятка, провел по лицу ладонью, будто обтирая степную пыль, и шепчет:
— Пора, слышишь, пора! — Он заспешил, расшнуровывая ботинки, и протянул мне: — На, меряй!
Я не понимал происходящего, но ботинок надел, и он был как раз.
— Подошел? Я так и знал, как влитой сидит, — ликует он. — И Христос Спаситель так и сказал: «Отдай ему ботинки, они ему нужнее». А в узелке тертый табак, посыпать будешь, чтоб собаки не взяли.
— Ты что? Что? — недоумеваю я, но во мне уже все ликует, и руки, ноги, и весь я упруг и еле сдерживаю движенья.
— Иди, иди, я засов открыл. А ботинки тебе впору, ну, словно влитые. Христос так и сказал.
— Я далеко не уйду, крови много потерял.
Но с надеждой прошел и страх, я так переполнен судорожным желанием жить, что еле сдерживаю себя, чтоб не выпрыгнуть в раскрытую им дверь, чтоб не понестись словно школьник в перемену.
— Киргизка связанный лежит, — шепчет Ванятка, — Афоня связал. Я так и сказал Афоне: если «он» не уйдет — мне не жить. Афоня не может без меня.
— А ты, — спрашиваю, — ты пойдешь?
Он отрицательно качнул головой и, помолчав, добавил:
— Мне нет прощения.
— Мы уйдем вдвоем, — убеждал я, — тебя простят: ты спас летчика, ты в наших не стрелял.
— Не виноват я, но люди не поймут, не простят меня. А я буду молиться за них и за тебя тоже. Иди, пора, иди! — и подтолкнул к двери, но тут же сделал знак, я остановился.
Маленького немчика уж нет, и теперь долговязая фигура с карабином на руке меряет двор с другой стороны. Крыша так мирно блестит под луной, так покойна сосна во дворе, и я воспринял всем существом, как расколет тишину выстрел. Ванятка, будто отгадав мои мысли, шепчет:
— До утра они не хватятся, доверчивые они, ходят от дерева к забору да отметины мелом оставляют — это, значит, сколько раз прошел, а утром фельдфебель замки проверит, отметины посчитает и скажет, «зер гут», а наши ребята сзади, в лебеде, подкоп сделали, и полсклада уже пропили. — Он трясется в смехе и доверительно прибавляет: — А знаешь, они ведь хорошие, работящие, и все делают с умом, если уж строят, так на сто лет, а вот поди ж, что творят… Ослеплены, и кару Божью понесут.
Часовой, проволочив тень по стене, скрылся за углом. Я выбежал из смрадного подвала в ночь, в прохладу, в свою свободу, не зная, как обуздать ее. Каждая клетка, каждая мышца помимо воли ходила ходуном и требовала движения.
Прячась за забором, мы прибежали к дальнему концу двора. За бурьяном начинался лес. Тут мы расстались. Он обнял меня, перекрестил и подтолкнул. Я потянул его за рукав, смеясь и презирая себя, но не мог укротить буйную радость.
— Нет! — вскрикнул он.
Я ушел один, натыкаясь на стволы и оглядываясь. Он все так и стоял, освещенный луной, задумчиво держа бороденку. А луна была так светла, так белели его босые ноги на матовом серебре росы со змеившимися обмотками.
Я знал, что голубые глаза косят на кончик носа и губы растягиваются в блаженной улыбке.
Феликс сложил листы, откинулся на сиденье, задумчиво поглядел в окно. Он вспомнил, что, когда встретил Ванятку вторично, он тоже был босоног, но уж на грязном, изрубленном танковыми гусеницами снегу.
Затем Феликс постелил в машине, чтобы не делать этого в темноте, накинул на плечи пуловер и побрел в сумерках меж бархатисто-черных шаров буксуса. Внизу серой гладью лежало море, оно напоминало о женщине, но Феликс старался не думать о ней, а размышлял о том, что слишком много боли приносит ему общение с людьми. Но я не одинок, нет, думал Феликс, у меня есть свой мир, населенный близкими мне по духу и образу мыслей людьми.
Феликс брел по старому парку, полному грустных видений. Незаметно стирались грани, и в реальное зримо и широко вливалась фантазия. И это была его страна.
Меж кипарисовых стволов оседал закат. На скамье в аллее, полной печали, сидел господин в черном цилиндре, положив руки на трость, и любовался вечерними красками. Его седая голова, как и он сам, была неподвижна, как деревья и кусты, теряющие очертания. Вокруг на зеленых тюльпанах застыли серебристые стрекозы.
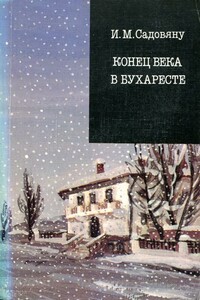
Роман «Конец века в Бухаресте» румынского писателя и общественного деятеля Иона Марина Садовяну (1893—1964), мастера социально-психологической прозы, повествует о жизни румынского общества в последнем десятилетии XIX века.

Начинается прозаическая книга поэта Вадима Сикорского повестью «Фигура» — произведением оригинальным, драматически напряженным, правдивым. Главная мысль романа «Швейцарец» — невозможность герметически замкнутого счастья. Цикл рассказов отличается острой сюжетностью и в то же время глубокой поэтичностью. Опыт и глаз поэта чувствуются здесь и в эмоциональной приподнятости тона, и в точности наблюдений.
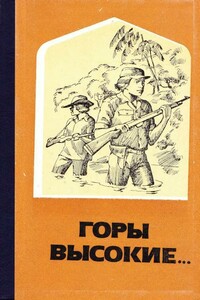
В книгу включены две повести — «Горы высокие...» никарагуанского автора Омара Кабесаса и «День из ее жизни» сальвадорского писателя Манлио Аргеты. Обе повести посвящены освободительной борьбе народов Центральной Америки против сил империализма и реакции. Живым и красочным языком авторы рисуют впечатляющие образы борцов за правое дело свободы. Книга предназначается для широкого круга читателей.
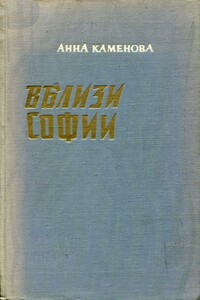
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эти дневники раскрывают сложный внутренний мир двадцатилетнего талантливого студента одного из азербайджанских государственных вузов, который, выиграв стипендию от госдепартамента США, получает возможность проучиться в американском колледже. После первого семестра он замечает, что учёба в Америке меняет его взгляды на мир, его отношение к своей стране и её людям. Теперь, вкусив красивую жизнь стипендиата и став новым человеком, он должен сделать выбор, от которого зависит его будущее.

Писатель Дмитрий Быков демонстрирует итоги своего нового литературного эксперимента, жертвой которого на этот раз становится повесть «Голубая чашка» Аркадия Гайдара. Дмитрий Быков дал в сторону, конечно, от колеи. Впрочем, жертва не должна быть в обиде. Скорее, могла бы быть даже благодарна: сделано с душой. И только для читателей «Русского пионера». Автору этих строк всегда нравился рассказ Гайдара «Голубая чашка», но ему было ужасно интересно узнать, что происходит в тот августовский день, когда герой рассказа с шестилетней дочерью Светланой отправился из дома куда глаза глядят.
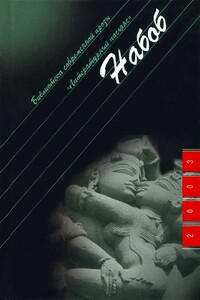
Французский юноша, родившийся в бедной семье, сошел с корабля на набережную Пондишери в одних лохмотьях, а менее чем через двадцать лет достиг такого богатства и славы, о которых ни один пират, ни один кондотьер не смели даже мечтать.В этой книге рассказывается о реальном человеке, Рене Мадеке, жившем в XVIII веке, о его драматической любви к царице Годха Сарасвати, о мятежах и набегах, о Великом Моголе и колониальных войнах — в общем, о загадочной и непостижимой для европейцев Индии, с ее сокровищами и базарами, с раджами и гаремами, с любовными ритуалами и тысячами богов.

«Желания» — магический роман. Все его персонажи связаны друг с другом роковой судьбой и непостижимыми тайными страстями. И все они находятся в плену желаний. Главный герой романа, молодой биолог Тренди желает любви покинувшей его Юдит, юной художницы. Та, в свою очередь, желает разгадать тайну Командора, знаменитого кинопродюсера. Командор и оперная дива Констанция Крузенбург желают власти. А еще персонажи романа пытаются избавиться от страха, порожденного предсказанием конца света.

Новый роман известной французской писательницы Ирэн Фрэн посвящен эпохе, которая породила такое удивительное культурное явление, как стиль модерн: эпохе изящно-вычурных поз и чувств, погони за удовольствиями, немого кино и кафешантанов.Юные провинциалки накануне Первой мировой войны приезжают в Париж, мечтая стать «жрицами любви». Загадочная Файя, умело затягивающая мужчин в водоворот страстей, неожиданно умирает. Пытаясь узнать правду о ее гибели, преуспевающий американец Стив О'Нил ищет Лили, ее подругу и двойника, ставшую звездой немого кино.