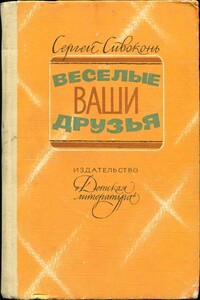Практические занятия по русской литературе XIX века - [42]
Гениальность в понимании Раскольникова не имеет ничего общего с чувством высокомерного превосходства над людьми, своей исключительности. Она ему важна как ступень для будущего сближения с людьми. Сходство между Раскольниковым и ницшевским «сверхчеловеком» чисто внешнее — в ощущении своего отщепенства, одиночества, непонятости, гордом отдалении от людей, презрении к ним, не понимающим высоких и благородных стремлений. Но Раскольников от всего этого бесконечно страдает, а «сверхчеловек» Ницше испытывает удовлетворение. Позиция Достоевского может быть соотнесена с позицией Ницше только по принципу противопоставления. Достоевский, остро переживавший разобщенность людей с развитым сознанием и народа, боровшийся в своих журналах и статьях за соединение народного идеала с идеями образованного человека, не мог одобрять в Раскольникове разрыва с людьми. Напротив, он намечает для своего героя путь спасения. Он один — возвращение к людям. По Достоевскому, гениальная натура — это еще добрая и честная натура. И Раскольникова больше всего мучает потеря после преступления сознания своей честности и доброты, невозможность любви к друзьям, матери, сестре, Соне.
Вопрос о добре и зле в душах людей Достоевский решает ве в духе штирнеровского «Единственного» — предтечи Ницше, а скорее в духе Шеллинга, когда зло рассматривается как результат недостаточности, неполноты и слабости добра и возникло из одного с ним источника. Это высокое зло, связанное со страданием, — свидетельство активной готовности души для добра. «Если бы в теле не было корня холода, невозможно было бы ощущение тепла, — писал Шеллинг. — …Вполне верно, поэтому, диалектическое утверждение: добро и зло — одно и то же, лишь рассматриваемое с разных сторон… Поэтому же вполне справедливо и то утверждение, что тот, в ком нет ни сил, ни материала для зла, бессилен и для добра — наше время дало нам достаточно убедительные примеры этого»[173]. По мысли Шеллинга, «человек поставлен на вершину, где имеет в себе источник свободного движения одинаково и к добру и к злу: связь начал в нем — не необходимая, но свободная. Он — на распутье, что бы он ни выбрал, это решение будет его деянием»[174]. Гармоническое единство двух начал — добра и зла — и есть бог. Стремление достичь этой гармонии — путь человека к совершенству, приближение его к богу.
В романе Достоевского теорию Раскольникова в ее сниженном, лишенном романтической философской основы варианте передает Свидригайлов. И теория выглядит пошлой, эгоистической, как говорит Свидригайлов, «теория, как всякая другая». Именно Свидригайлов выдвигает на первый план мысль о гениальности как праве на злодейство ради высокой цели. «Тут, как бы это вам выразить, — говорит он Дуне, — своего рода теория, то же самое дело, по которому я нахожу, например, что единичное злодейство позволительно, если главная цель хороша. Единственное зло и сто добрых дел!» (379).
Раскольников сам больше всего ценит в своей теории и оберегает высокое романтическое начало. Проанализируем подробно первую встречу Порфирия Петровича с Раскольниковым. В ней антигуманный смысл теории подчеркивается насмешливой и язвительной речью следователя, а гуманистическая основа, на которой она возникла, — речью Раскольникова.
Обратим внимание студентов на то, что дополняет слова беседующих: портрет Порфирия Петровича и ремарки автора, характеризующие поведение, жесты и мимику говорящих. Оба героя выглядят здесь непримиримыми антагонистами. Во внешнем облике Порфирия Петровича соединяется как бы несоединимое: что‑то земное, суетное, нездоровое с серьезностью, бодрый ум с безволием, откровенность с неискренностью. «Это был человек лет тридцати пяти, росту пониже среднего, полный и даже с брюшком, выбритый, без усов и без бакенбард, с плотно выстриженными волосами на большой круглой голове, как‑то особенно выпукло закругленной на затылке. Пухлое, круглое и немного курносое лицо его было цвета больного, темно–желтого, но довольно бодрое и даже насмешливое. Оно было бы даже и добродушное, если бы не мешало выражение глаз, с каким‑то жидким водянистым блеском, прикрытых почти белыми, моргающими, точно подмигивая кому, ресницами. Взгляд этих глаз как‑то странно не гармонировал со всею фигурой, имевшею в себе даже что‑то бабье, и придавал ей нечто гораздо более серьезное, чем с первого взгляда можно было от нее ожидать» (194—195). Тон и жесты его близки к фиглярству. Раскольников видит, что он «явно насмешливо посмотрел на него, прищурившись и как бы ему подмигнув», говорит он то «спокойно и холодно», озабоченно глядя в сторону, то «с чуть приметным оттенком насмешливости», то «с каким‑то бабьим жестом» качает головою.
Столкновение точек зрения Раскольникова и Порфирия Петровича достигается тем, что Порфирий Петрович все время соединяет теорию с преступлением, как бы сводит ее с пьедестала в реальность, обнаруживая ее безобразие и уродливость, Раскольников же подчеркивает несовпадение их. Он отстаивает в своей теории самое главное — то, что она не обязательно должна приводить к преступлению. «…Я вовсе не настаиваю, — говорит он, — чтобы необыкновенные люди непременно должны и обязаны были творить всегда всякие бесчинства…» (202). По его мнению, люди «необыкновенные» большей частью «требуют, в весьма разнообразных заявлениях, разрушения настоящего во имя лучшего» и позволяют себе перешагнуть через кровь не всегда, а «смотря по идее и по размерам ее» (203). Раскольников с горечью анализирует опыт истории, когда основная масса «послушных» исполняет свое назначение тем, что казнит и вешает осмелившихся не примириться. Он обнаруживает высокий смысл своей теории в жажде увидеть «самостоятельного человека», дерзающего потребовать «лучшего».

В новую книгу волгоградского литератора вошли заметки о членах местного Союза писателей и повесть «Детский портрет на фоне счастливых и грустных времён», в которой рассказывается о том, как литература формирует чувственный мир ребенка. Книга адресована широкому кругу читателей.

«Те, кто читают мой журнал давно, знают, что первые два года я уделяла очень пристальное внимание графоманам — молодёжи, игравшей на сетевых литературных конкурсах и пытавшейся «выбиться в писатели». Многие спрашивали меня, а на что я, собственно, рассчитывала, когда пыталась наладить с ними отношения: вроде бы дилетанты не самого высокого уровня развития, а порой и профаны, плохо владеющие русским языком, не отличающие метафору от склонения, а падеж от эпиграммы. Мне казалось, что косвенным образом я уже неоднократно ответила на этот вопрос, но теперь отвечу на него прямо, поскольку этого требует контекст: я надеялась, что этих людей интересует (или как минимум должен заинтересовать) собственно литературный процесс и что с ними можно будет пообщаться на темы, которые интересны мне самой.

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.
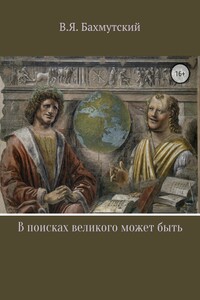
«В поисках великого может быть» – своего рода подробный конспект лекций по истории зарубежной литературы известного филолога, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора ВГИК Владимира Яковлевича Бахмутского (1919-2004). Устное слово определило структуру книги, порой фрагментарность, саму стилистику, далёкую от академичности. Книга охватывает развитие европейской литературы с XII до середины XX века и будет интересна как для студентов гуманитарных факультетов, старшеклассников, готовящихся к поступлению в вузы, так и для широкой аудитории читателей, стремящихся к серьёзному чтению и расширению культурного горизонта.

Расшифровка радиопрограмм известного французского писателя-путешественника Сильвена Тессона (род. 1972), в которых он увлекательно рассуждает об «Илиаде» и «Одиссее», предлагая освежить в памяти школьную программу или же заново взглянуть на произведения древнегреческого мыслителя. «Вспомните то время, когда мы вынуждены были читать эти скучнейшие эпосы. Мы были школьниками – Гомер был в программе. Мы хотели играть на улице. Мы ужасно скучали и смотрели через окно на небо, в котором божественная колесница так ни разу и не показалась.