Позднее время - [6]
Я вспоминал Т.О., не ту отстраненную, какую сделал мастер заморозки, и даже не ту, которую с неведомым прежде чувством прижимал к себе утром, а Т.О. — живую, молодую, довоенную, стройную, в бордовом пальто, какого больше ни у кого у нас в доме не было, в маленькой бордовой шляпе с черной вуалеткой, какую больше никто у нас в доме не носил, вспоминал ее первого мужа, отца Файки, какого-то видного партийца, исчезнувшего в тридцать седьмом году, и второго недолгого мужа, торопливого киношника в кожаном пальто нараспашку и мягкой серой кепке, вспоминал, как в далеком моем детстве Т.О., когда я приходил к Файке, угощала меня редкостными тогда мандаринами (каждый был завернут в прозрачную бумажку), а уже в недавнее время, зазывая, чтобы поговорить об очередном Файкином замужестве, доставала из буфета бутылку хорошего грузинского красного вина, какого не достать в магазине, вспомнил большую хрустальную пепельницу всегда стоявшую посреди стола, накрытого темно-зеленой бархатной скатертью, и лежащую рядом непременную коробку «Казбека»... — и что же, думал я, вся эта жизнь, со всеми ее думами, чувствами, радостями и бедами, событиями и похождениями, со всей ее необъятной памятью и бесконечным скрещением судеб уместилась в плотный влажный сверток, завернутый в газету, который я бросил в помоечный ящик?..
Я вдруг сообразил, почему мне с первого взгляда показалось, что я уже прежде встречал Аркадия Ивановича. Подростком, живя у бабушки в Сибири, я видел в тамошнем театре «Лес» Островского: артист, игравший Аркашку Счастливцева, был точь-в-точь нынешний знакомец — такая же круглая бритая голова, короткая фигура, такой же непонятного цвета клетчатый пиджачок... Бабушка, Сибирь, дедов галстук, который вопреки моим протестам повязали мне на шею, отправляя на спектакль, залитые лунным светом сугробы, узкая тропа, протоптанная по заснеженному тротуару, провинциальный театр, разместившийся в здании бывшего Купеческого собрания, лепнина венков на потолке зала, прохлада, которой дохнуло со сцены, когда пошел в стороны ярко подсвеченный занавес цвета рыжей лисицы, и это божественное волнение, которое заставляет задохнуться от первой раздавшейся со сцены реплики... — тоже все на помойку во влажном свертке?..
Нас зарывают — точно бросают в океанскую бездну бутылку с запечатанным текстом.
Однажды в выходной (воскресений, как и остальных дней недели — в ту пору, впрочем, шестидневной — названиями не обозначали) отец отправился навестить знакомого и почему-то взял меня с собой. Знакомого звали Антонин Иванович.
Имя меня удивило: мужчина — и Антонин. В нашем подъезде жила худощавая женщина из русских немок, с бледным лицом и светлыми влажными глазами, — Антонина Ивановна. Она зарабатывала какой-то надомной художественной работой — что-то расписывала или раскрашивала. У нас в кухне долго висела подаренная ею маленькая картинка: две веточки смородины — красные и белые ягодки, круглые, блестящие, очень похожие на настоящие. В сорок первом Антонину Ивановну вышлют на восток, и она уже никогда не вернется, конечно.
Четырехэтажный кирпичный дом, в котором жил Антонин Иванович, возвышался на небольшой площади: посреди площади была бензоколонка с красным насосом. Мы постояли немного: мне очень хотелось дождаться, пока подъедет на заправку нечастый в те годы автомобиль. Отец держал мою руку в своей; я помню, больше того чувствую рукой, всем своим существом приятную, сухую и теплую ладонь отца. Неподалеку на тротуаре стоял аптечный киоск — такие в изрядном количестве появились тогда на московских улицах: тяжелая, почти кубической формы обитая вагонкой будка, красная надпись «Аптека» по белому матовому стеклу вывески. Автомобиль так и не показался. Мы вошли в сумрачное парадное и начали подниматься по лестнице с истертыми выщербленными ступеньками.
Длинный типовой коридор коммунальной квартиры, завешанный по стенам эмалированными тазами, оцинкованными корытами, стиральными и гладильными досками (велосипедами тогда владели немногие) уже многократно описан и «обэкранен», по словцу Северянина. Коридор этот нужно было пройти до конца: обитая черной клеенкой дверь в комнату Антонина Ивановича была из кухни, — здесь на столах, сияя небесно-синим пламенем горелок, со свистом пели примуса, пахло керосином, убежавшим молоком и перловым супом. За выцветшим стеклом кухонного окна, на прилаженной к подоконнику дощатой полке стояли кастрюли и банки с какой-то снедью, — холодильники в нашем обиходе появятся на целую эпоху позже...
Впрочем, мне уже тогда, в детстве, выпал почти немыслимый случай увидеть холодильник.
В нашем доме обитал молодой, то ли подающий надежды, то ли обеспеченный полезными знакомствами инженер со странной фамилией Коран. Он был рыжий, с мягким розовым лицом и, как бывает у рыжих, белыми торчащими вперед ресницами. Встречая его, мы, дети, отбегали на почтительное расстояние и орали во все горло: «Рыжий, красный — цвет опасный», но он, что было обидно, продолжал идти своей неторопливой, точно отдувающейся походкой, глядя прямо перед собой и не обращал на нас ни малейшего внимания. Этот Коран по какой-то служебной надобности был командирован на несколько месяцев в Америку — факт для того времени крайне редкий (добавлю: впоследствии он не был арестован, что уже попросту непостижимо); среди вещей, привезенных им из-за границы, был холодильник. Многие жильцы дома, даже мало знакомые с инженером, жаждали взглянуть на диковинку, и он, спасибо ему, оказался щедр и гостеприимен. Коран делил квартиру с тестем, известным детским врачом. Путь в комнату, где стоял холодильник, пролегал через столовую; там, среди прочей добротной старинной мебели находилось пианино — не черное, а необычного красного дерева, на крышке, между двумя высокими бронзовыми канделябрами белел накрытый стеклянным колпаком человеческий череп. Вспоминаю как примету времени: никто на красное пианино и на привычно скаливший зубы череп и не оборачивался — люди завороженно следовали за идущим своей мерной походкой Кораном, жаждя поскорее приобщиться к чуду. Коран жестом волшебника отворял сияющую белизной дверцу, мягко улыбаясь, заметно радовался изумлению посетителя и в завершение показа предъявлял нечто вовсе невероятное — выдернутое откуда-то корытце с аккуратными кубиками чистого глянцевого льда...
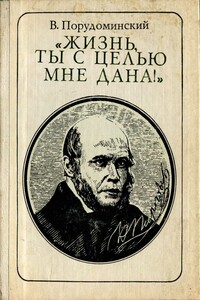
Эта книга о великом русском ученом-медике Н. И. Пирогове. Тысячи новых операций, внедрение наркоза, гипсовой повязки, совершенных медицинских инструментов, составление точнейших атласов, без которых не может обойтись ни один хирург… — Трудно найти новое, первое в медицине, к чему бы так или иначе не был причастен Н. И. Пирогов.

Владимир Иванович Даль (1801–1872) был человеком необычной судьбы. Имя его встретишь в учебниках русской литературы и трудах по фольклористике, в книгах по этнографии и по истории медицины, даже в руководствах по военно-инженерному делу. Но для нас В. И. Даль прежде всего создатель знаменитого и в своем роде непревзойденного «Толкового словаря живого великорусского языка». «Я полезу на нож за правду, за отечество, за Русское слово, язык», — говорил Владимир Иванович. Познакомьтесь с удивительной жизнью этого человека, и вы ему поверите. Повесть уже издавалась в 1966 году и хорошо встречена читателями.
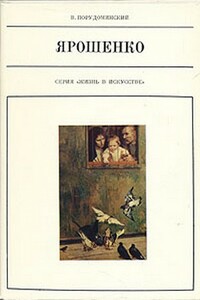
Книга посвящена одному из популярных художников-передвижников — Н. А. Ярошенко, автору широко известной картины «Всюду жизнь». Особое место уделяется «кружку» Ярошенко, сыгравшему значительную роль среди прогрессивной творческой интеллигенции 70–80-х годов прошлого века.

Сказки потому и называют сказками, что их сказывают. Сказок много. У каждого народа свои; и почти у всякой сказки есть сестры — сказка меняется, смотря по тому, кто и где ее рассказывает. Каждый сказочник по-своему приноравливает сказку к месту и людям. Одни сказки рассказывают чаще, другие реже, а некоторые со временем совсем забываются.Больше ста лет назад молодой ученый Афанасьев (1826–1871) издал знаменитое собрание русских народных сказок — открыл своим современникам и сберег для будущих поколений бесценные сокровища.
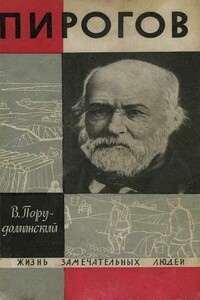
Выпуск из ЖЗЛ посвящен великому русскому врачу, хирургу Николаю Ивановичу Пирогову (1810-1881). Практикующий хирург, участник трагической Крымской войны, основатель российской школы военно-полевой хирургии, профессор, бунтарь, так, наверное, немногими словами можно описать жизненный путь Пирогова.Великий хирург, никогда не устававший учиться, искать новое, с гордостью за своих потомков вошел бы сегодняшнюю лабораторию или операционную. Эта гордость была бы тем более законна, что в хирургии восторжествовали идеи, за которые он боролся всю жизнь.Вступительная статья Б.

Повесть о Крамском, одном из крупнейших художников и теоретиков второй половины XIX века, написана автором, хорошо известным по изданиям, посвященным выдающимся людям русского искусства. Книга не только знакомит с событиями и фактами из жизни художника, с его творческой деятельностью — автор сумел показать связь Крамского — идеолога и вдохновителя передвижничества с общественной жизнью России 60–80-х годов. Выполнению этих задач подчинены художественные средства книги, которая, с одной стороны, воспринимается как серьезное исследование, а с другой — как увлекательное художественное повествование об одном из интереснейших людей в русском искусстве середины прошлого века.

Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.

Журналистка Эбба Линдквист переживает личностный кризис – она, специалист по семейным отношениям, образцовая жена и мать, поддается влечению к вновь возникшему в ее жизни кумиру юности, некогда популярному рок-музыканту. Ради него она бросает все, чего достигла за эти годы и что так яро отстаивала. Но отношения с человеком, чья жизненная позиция слишком сильно отличается от того, к чему она привыкла, не складываются гармонично. Доходит до того, что Эббе приходится посещать психотерапевта. И тут она получает заказ – написать статью об отношениях в длиною в жизнь.

Истории о том, как жизнь становится смертью и как после смерти все только начинается. Перерождение во всех его немыслимых формах. Черный юмор и бесконечная надежда.

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.

Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.
