Повседневная жизнь Москвы в XIX веке - [2]
Москвичи ревниво относились к славе Питера и потому наружно его презирали. Стоило чему-нибудь иметь успех в Северной столице, как это тотчас с треском проваливалось в Москве. (Впрочем, бывало и наоборот.)
В Москве были своя собственная литература, журналистика, свое мировоззрение, своя философия — славянофильство, сугубый патриотизм и «русское направление» мысли, специально московская снедь — калачи и сайки, свой говор — певучий, мягкий, «акающий», своя манера одеваться. «Население старой Москвы не имело представления о моде. Костюмы и обычаи регулировались традициями, житейским комфортом или личным выбором»[2]. Если в центре города и преобладал костюм европеизированный, лишь немного усовершенствованный по собственному и общемосковскому вкусу, то на окраинах и в пригородах еще и в 1890-х годах преобладали сарафаны и поддевки, шушуны и допотопные кацавейки, примятые картузы и разноцветные платочки с пышными розанами.
Общемосковские знаменитости были такой же городской достопримечательностью, как трактир Тестова, Иверская или Царь-пушка. Не знать их было предосудительно, а называли их не как простых смертных — по фамилии, а исключительно по имени и отчеству.
«Живо помню, как седовласый Тургенев с молодым М. М. Ковалевским и еще с кем-то из университетских профессоров не столько шел, сколько шествовал Пречистенским бульваром к Арбатской площади, и — по пути его со скамей дружно вставала и шляпы снимала сидевшая публика», — вспоминал А. В. Амфитеатров. И он же рассказывал, как герой войны за Болгарию, «белый генерал» «Скобелев стоял в старинной московской гостинице Дюсо и буквально шага не мог сделать с подъезда ее без того, чтобы не быть в ту же минуту окруженным восторженною толпою влюбленно глазевших зевак В Охотном ряду торговцы перед ним на колена становились»[3]. Скобелев и умер в Москве 25 июня 1882 года в номере гостиницы «Англетер» у известной московской кокотки Шарлотты Альтенроз, и был отпет в храме Трех Святителей у Красных ворот при небывалом стечении народа. (Позднее многие московские прелестницы присваивали себе сомнительную честь считаться «могилой Скобелева».)
Точно такими же общемосковскими кумирами становились любимые актеры, певцы, кулачные бойцы, адвокаты, профессора и публицисты. В Москве был настоящий культ доморощенных великих людей.
Если в Петербурге всё было дисциплина и субординация, то в Москве — «покой и воля» и почти семейственные отношения. В Москве все всех знали, и мнение «княгини Марьи Алексеевны» было весомым фактором соблюдения общественной благопристойности. Самых заблудших вызывал к себе и отечески увещевал генерал-губернатор, а провинившимся мужикам московский обер-полицмейстер без затей и собственноручно отвешивал тумаки. В Москве не выносили официальности, но в то же время уважали власть и авторитеты на всех уровнях — от генерал-губернаторской до власти родителей, господина над челядью и хозяина над мастеровыми.
Правда, градоначальников в Москве ценили и запоминали в основном таких, которые умели усвоить себе общий домашний, отеческий тон и стиль отношений. Они могли быть «отцами» строгими и взыскательными, могли быть добродушны и снисходительны; город принимал и по-своему любил и тех и других, а вот чопорных и державших дистанцию — не принимал.
Патриархальный характер Москвы многое объяснял в ее внутренней истории. Обыватель обожал Москву и, имея средства, многое для нее делал. Именно в Москве возможно было открытие консерватории на частные средства, именно Москве с открытым сердцем дарили музеи и библиотеки, строили для нее благотворительные учреждения, университеты и бесплатные дома.
Истинные москвичи были добродушны, безалаберны, многословны, недоверчивы, любопытны, любили лениться, много ели и не лазили за словом в карман. У всякого московского жителя было в запасе множество присловий, шуток, поговорок, уместных цитат и анекдотов, и с их помощью он с честью и без потерь выходил победителем из любого словесного поединка. Когда отливали новый колокол, весь город с увлечением морочил друг другу голову (по поверью, удачная ложь в это время придавала колокольной меди необходимую голосистость), и простаки толпами бегали смотреть, как «провалилась» Спасская башня или, к примеру, «уплыл» Большой Каменный мост. В городе не было ни одного урочища либо улицы, кои не имели бы фамильярно-ласкательных прозвищ, иногда вытеснявших исконное название — Мошок (Моховая), Землянка (Земляной вал), Воробьевка, Щипок, Полянки, Горки, Рвы, Пески, Роушки, Глинища… и бог весть что еще.
Просыпалась Москва рано. С рассветом начинали сновать по улицам фабричные, мастеровые, разносчики, мясники и булочники с корзинами и лотками на головах. Катили на рынки подводы с молоком, сеном, дровами, курами, битком набитыми в клетушки, раскачивались на колдобинах, стукались о тротуарные столбы — спешили. «Тут везли и продукты для населения: муку, мясо (зимой множество мороженых свиных туш), пиво, водку, дрова, и для строительства — кирпич, лес, известь, железо; а также фабричное сырье и товары: хлопок, шерсть, мануфактуру; последнюю с фабрик — в Китайгородские амбары… Эти обозы направлялись для „благообразия“ и порядка не по главным улицам (они береглись для легковой езды), а по обходным переулкам»
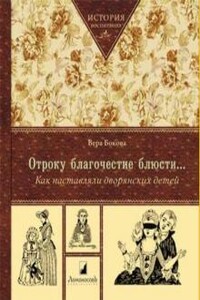
Как вырастить своих детей? Как их надо воспитывать, чтобы они стали образованными, достойными, порядочными людьми? Этот вопрос всегда занимал родителей. Обычно о методах воспитания судят по плодам, которые они приносят. И если мы вспомним XIX столетие, «золотой век» России, ее лучших писателей, поэтов, воинов, дипломатов, нежных и преданных их спутниц, то можно сделать вывод, что, пожалуй, лучшего воспитания, чем дворянское, в нашей стране и не было.
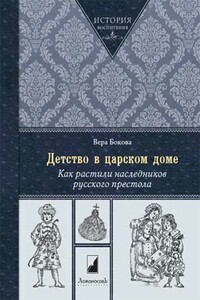
Родиться в царской семье, по мнению многих, — везение. Но везение это оборачивалось в самом юном возрасте тяжким грузом обязанностей. Что значит быть наследником престола и авансом, с самого раннего возраста, ощущать ответственность, которая в будущем ляжет на плечи? Как воспитывать того, кто через несколько лет получит в свои руки неограниченную власть и будет вершить судьбы мира? Как жили сыновья и дочери царей, с кем дружили, во что играли, что читали и как привыкали к своим многотрудным обязанностям, как складывались их взаимоотношения с родителями и воспитателями, в каких придворных празднествах и церемониалах участвовали? Книга Веры Боковой посвящена и самим царственным отпрыскам, и тем, кто выполнял особую миссию — растил их, учил и пестовал.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.

Материалы III Всероссийской научной конференции, посвящены в основном событиям 1930-1940-х годов и приурочены к 70-летию начала «Большого террора». Адресованы историкам и всем тем, кто интересуется прошлым Отечества.

Очередной труд известного советского историка содержит цельную картину политической истории Ахеменидской державы, возникшей в VI в. до н. э. и существовавшей более двух столетий. В этой первой в истории мировой державе возникли важные для развития общества социально-экономические и политические институты, культурные традиции.

Монография посвящена актуальной научной проблеме — взаимоотношениям Советской России и великих держав Запада после Октября 1917 г., когда русский вопрос, неизменно приковывавший к себе пристальное внимание лидеров европейских стран, получил особую остроту. Поднятые автором проблемы геополитики начала XX в. не потеряли своей остроты и в наше время. В монографии прослеживается влияние внутриполитического развития Советской России на формирование внешней политики в начальный период ее существования. На основе широкой и разнообразной источниковой базы, включающей как впервые вводимые в научный оборот архивные, так и опубликованные документы, а также не потерявшие ценности мемуары, в книге раскрыты новые аспекты дипломатической предыстории интервенции стран Антанты, показано, что знали в мире о происходившем в ту эпоху в России и как реагировал на эти события.

Отмечаемый в 2007 году 170-летний юбилей российских железных дорог вновь напоминает о той роли, которую эти пути сообщения сыграли в истории нашего государства. Протянувшись по всей огромной территории России, железные дороги образовали особый мир со своим населением, своими профессиями, своей культурой, своими обычаями и суевериями. Рассказывая о прошлом российской железки, автор книги Алексей Вульфов — писатель, композитор, председатель Всероссийского общества любителей железных дорог — широко использует исторические документы, воспоминания ветеранов-железнодорожников и собственные впечатления.

Иван Грозный давно стал знаковым персонажем отечественной истории, а учреждённая им опричнина — одной из самых загадочных её страниц. Она является предметом ожесточённых споров историков-профессионалов и любителей в поисках цели, смысла и результатов замысловатых поворотов политики царя. Но при этом часто остаются в тени непосредственные исполнители, чьими руками Иван IV творил историю своего царствования, при этом они традиционно наделяются демонической жестокостью и кровожадностью.Книга Игоря Курукина и Андрея Булычева, написанная на основе документов, рассказывает о «начальных людях» и рядовых опричниках, повседневном обиходе и нравах опричного двора и службе опричного воинства.

«Руси есть веселье питье, не можем без того быти» — так ответил великий киевский князь Владимир Святославич в 988 году на предложение принять ислам, запрещавший употребление крепких напитков. С тех пор эта фраза нередко служила аргументом в пользу исконности русских питейных традиций и «русского духа» с его удалью и безмерностью.На основании средневековых летописей и актов, официальных документов и свидетельств современников, статистики, публицистики, данных прессы и литературы авторы показывают, где, как и что пили наши предки; как складывалась в России питейная традиция; какой была «питейная политика» государства и как реагировали на нее подданные — начиная с древности и до совсем недавних времен.Книга известных московских историков обращена к самому широкому читателю, поскольку тема в той или иной степени затрагивает бóльшую часть населения России.

В XVIII веке в России впервые появилась специализированная служба безопасности или политическая полиция: Преображенский приказ и Тайная канцелярия Петра I, Тайная розыскных дел канцелярия времен Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, Тайная экспедиция Сената при Екатерине II и Павле I. Все они расследовали преступления государственные, а потому подчинялись непосредственно монарху и действовали в обстановке секретности. Однако борьба с государственной изменой, самозванцами и шпионами была только частью их работы – главной их заботой были оскорбления личности государя и всевозможные «непристойные слова» в адрес властей.