Повести - [72]
Максим наконец рассмеялся. Смеется он всегда тихо, сначала подержав свой мальчишеский смех, точно воду, за тонкими сжатыми губами. Вслед за Максимом, чуть не в полный голос, засмеялся и Толя. Неловко было смеяться над тем, что дед обжигается, но стало уже и весело, и как-то неожиданно тепло. Улыбнулся и Аржанец.
Коптилку зажгли и поставили на перевернутый солдатский котелок. Дед положил на стол круглое донце — кружок от березового комля — и на него по-хозяйски поставил полную горячей снеди сковороду. Особенно хорошо, совсем по-домашнему, пахло в землянке луком. Буханка хлеба лежала на конце длинного, неплотно сбитого дощатого стола на скрещенных ножках, по-домашнему уютно накрытого вместо скатерти рушником.
Аржанца Толя тоже знал мало. Комиссар одного из пяти отрядов их бригады, при панах — подпольщик, сидел в тюрьме. Покуда и все. К тому же Толя, который жизни своей вел счет больше на месяцы, чем на годы, а партизанскую службу считал пока на дни, чувствовал себя при начальстве неловко. Правда, неловкость скоро прошла. Комиссар снял шинель и ушанку и — в домотканой, до шеи застегнутой куртке, правую полу которой оттопыривал наган, — присел к столу, поправив широкой рукой нехитрую темно-русую прическу.
— Антось Данилович, — обратился он к деду с простодушной улыбкой, — а про Антония Печерского вы нам, пожалуй, загнули. Насколько я знаком с божьим календарем — святой этот родился не сегодня. Сегодня как будто святого Сергея.
Он ткнул большим пальцем левой руки себя в грудь:
— Не мои ли это именины?
Хлопцы опять захохотали. Деда это, однако, не смутило.
— Оба мы с тобой, как я вижу, здорово знаем календарь. А может, сегодня какого-нибудь Максима или Толика. Так вот мы по этому случаю…
Старик порылся в изголовье своих нар и поставил на стол бутылку.
— Может, скажешь, что я и это украл из бригадного энзэ? Ты, грамотей, говори, да иной раз думай, что говоришь… Ну, будь, Сергей, здоров!
Выпили по очереди из одной посудины и стали закусывать.
Дядька Антось недаром прожил долгий век: он хорошо знал, как сближает людей хлеб да соль. Они отламывали толстые куски еще не очень черствого хлеба, макали их в горячее душистое сало, ели не спеша, с толком, как умеют есть только те, кто хорошо знает цену и дорого доставшемуся хлебу, и тяжелому труду.
Говорили опять о том, о чем говорила вся страна, весь мир, — о великой радости долгожданной победы, что не так давно на века слилась со словом «Сталинград».
— Теперь он, фашистская стерва, покатится, — видно, не в первый раз, но все с тем же удовольствием говорил Аржанец. — Кубарем покатится назад. Теперь и нам, между прочим, веселей. Долби под рельсом и долби, подставляй ему ножку, чтоб спотыкался. Сегодня заряд, а завтра — два.
— А толу-то где наберешься?
— Подкинут, дядька Антось. Толу хватит, охоты тоже. Верно, Климёнок?
Он даже подмигнул.
— Верно, товарищ комиссар.
Толя сказал это, казалось, как положено — по-взрослому, по-солдатски, и смотрел на начальство, кажется, уже совсем смело. Словно на добродушного дядьку постарше.
Говорили и о делах совсем обыденных: дед вспоминал о давней поре, когда он был плотогоном, Максим ловко наводил его на уже известные ему веселые случаи, и все смеялись. И тепло было от этой простой и вместе с тем нежданной для Толи радости.
Когда же Максим, не спросив у отца, не холодно ли ему в одной рубахе, принес с нар кожух и накинул старику на плечи, Толя не выдержал… Все это было так понятно: тепло там, где натоплено, хорошо там, где собрались добрые люди, а все-таки мальчик не мог удержаться, заплакал. Если ж в этом была виновата и чарка, так дай нам боже пить ее почаще…
…Студент с необыкновенной живостью видел сейчас эти мальчишечьи слезы: он даже глаза зажмурил и тряхнул головой, чтобы вернуться к действительности. Все еще стоя в лодке, он огляделся вокруг.
Слева, почти до самого леса на горизонте, расстилались луга. На покосе уже не колко — бескрайнюю равнину, на радость глазу и босым ногам, покрыла светло-зеленая мягкая отава. На правом берегу — большая деревня, которую Толя, очнувшись от задумчивости, только сейчас, кажется, заметил.
Первые деревенские жители, встретившиеся ему здесь, на реке, были утки — с сытым гомоном и плеском они жировали и купались; их пестрая стая покрыла весь широкий плес. Часть из них, не подпустив лодку слишком близко, взлетела и, легко, с посвистом разрезая воздух крыльями, понеслась над лугом.
«Дикие», — подумал Толя. Не удивился: видел это и дома.
Жаркое, спокойное приволье.
И правда — «пусто летом в наших селах», — вспомнилась строчка из школьного стишка. Сельмаг весь день на замке, потому что продавщица тоже ходит за жнейкой. Сквозь открытое окно колхозной конторы далеко разносится деловитое пощелкивание счетов и — время от времени — то девичий смех, то тихая песня: урывками, ведь за работой! На теплом песке единственной улицы — следы грузовиков, телег и босых ножек, там и сям припорошенные то сеном, то первым оброненным колосом. Как славно сейчас опустить в самую глубь колодца клюв старого журавля, вытащить из темной, страшноватой бездны тяжелую деревянную бадью, расплескивая на босые ноги студеную воду, припасть пересохшими губами к мокрой сосновой клепке! А разве хуже забраться в густую листву вишни, отыскивая особенно сладкие — последние, проклеванные скворцами и подсохшие, — ягоды? А бабушка или мама ищет тебя, кличет с порога, словно ты ей невесть как нужен, и именно сейчас…
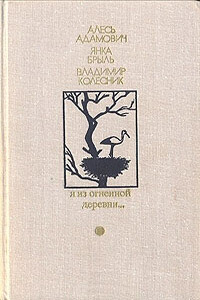
Из общего количества 9200 белорусских деревень, сожжённых гитлеровцами за годы Великой Отечественной войны, 4885 было уничтожено карателями. Полностью, со всеми жителями, убито 627 деревень, с частью населения — 4258.Осуществлялся расистский замысел истребления славянских народов — «Генеральный план „Ост“». «Если у меня спросят, — вещал фюрер фашистских каннибалов, — что я подразумеваю, говоря об уничтожении населения, я отвечу, что имею в виду уничтожение целых расовых единиц».Более 370 тысяч активных партизан, объединенных в 1255 отрядов, 70 тысяч подпольщиков — таков был ответ белорусского народа на расчеты «теоретиков» и «практиков» фашизма, ответ на то, что белорусы, мол, «наиболее безобидные» из всех славян… Полумиллионную армию фашистских убийц поглотила гневная земля Советской Белоруссии.

Сборник рассказов белорусского писателя Янки Брыля из книги "Иду в родное". Рассказы тематически охватывают разное время — от довоенных лет до сегодняшнего дня.1. Ты мой лучший друг.2. Мать.3. Один день.4. Лазунок.5. Снежок и Гуленька.6. Галя.7. Осколочек радуги.8. Тоска.9. Звезда на пряжке.10. В глухую полночь.11. Глядите на траву.

Янка Брыль — видный белорусский писатель, автор многих сборников повестей и рассказов, заслуженно пользующихся большой любовью советских читателей. Его произведения издавались на русском языке, на языках народов СССР и за рубежом.В сборник «Повести» включены лучшие из произведений, написанных автором в разные годы: «Сиротский хлеб», «В семье», «В Заболотье светает», «На Быстрянке», «Смятение», «Нижние Байдуны».Художественно ярко, с большой любовью к людям рассказывает автор о прошлом и настоящем белорусского народа, о самоотверженной борьбе коммунистов-подпольщиков Западной Белоруссии в буржуазной Польше, о немеркнущих подвигах белорусских партизан в годы Великой Отечественной войны, о восстановлении разрушенного хозяйства Белоруссии в послевоенные годы.
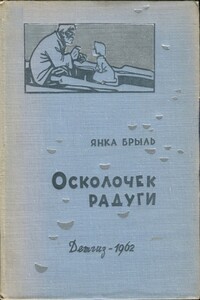
Белорусский писатель Янка Брыль детство и юность прожил в Западной Белоруссии, до сентября 1939 года находившейся в пределах бывшей буржуазной Польши. Деревенский пастушок, затем — панский солдат, невольный защитник чужих интересов, создавая теперь, в наши дни, такие произведения, как повесть «Сиротский хлеб» и цикл рассказов «Ты мой лучший друг», думал, конечно, не только о прошлом… В годы Великой Отечественной войны, бежав из фашистского плена, Янка Брыль участвовал в партизанском движении. Рассказы «Мать», «Один день», «Зеленая школа» посвящены простым советским людям, белорусским народным мстителям, обаятельным, скромным и глубоко человечным. К этим рассказам примыкает и рассказ «Двадцать» — своеобразный гимн братству простых и чистых сердцем людей всей земли. Остальные рассказы сборника — «Ревность», «Осколочек радуги», «Тоска» и «Надпись на срубе» — повествуют о радостях мирного труда, о красоте белорусской природы, о самой высокой поэзии жизни — поэзии детства.

Это наиболее полная книга самобытного ленинградского писателя Бориса Рощина. В ее основе две повести — «Открытая дверь» и «Не без добрых людей», уже получившие широкую известность. Действие повестей происходит в районной заготовительной конторе, где властвует директор, насаждающий среди рабочих пьянство, дабы легче было подчинять их своей воле. Здоровые силы коллектива, ярким представителем которых является бригадир грузчиков Антоныч, восстают против этого зла. В книгу также вошли повести «Тайна», «Во дворе кричала собака» и другие, а также рассказы о природе и животных.
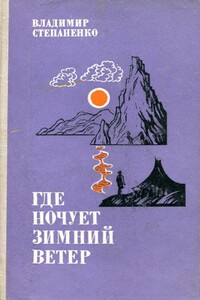
Автор книг «Голубой дымок вигвама», «Компасу надо верить», «Комендант Черного озера» В. Степаненко в романе «Где ночует зимний ветер» рассказывает о выборе своего места в жизни вчерашней десятиклассницей Анфисой Аникушкиной, приехавшей работать в геологическую партию на Полярный Урал из Москвы. Много интересных людей встречает Анфиса в этот ответственный для нее период — людей разного жизненного опыта, разных профессий. В экспедиции она приобщается к труду, проходит через суровые испытания, познает настоящую дружбу, встречает свою любовь.

В книгу украинского прозаика Федора Непоменко входят новые повесть и рассказы. В повести «Во всей своей полынной горечи» рассказывается о трагической судьбе колхозного объездчика Прокопа Багния. Жить среди людей, быть перед ними ответственным за каждый свой поступок — нравственный закон жизни каждого человека, и забвение его приводит к моральному распаду личности — такова главная идея повести, действие которой происходит в украинской деревне шестидесятых годов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.
