Повесть о том, как возникают сюжеты - [96]
Вынимал, как фокусник, из папок большие листы и накалывал на стены, ставил на кресла, на стол, на окно — так, незаметно, он впустил нас в мир, о существовании которого я и не подозревал. Мир видений неотвязных, преследовавших его, когда он оставался наедине. Темноватая комната наполнилась рисунками, условными по своей манере, нарисованными на черной и серой толстой, шершавой бумаге то углем, то мелом, то соусом, где-то немного пастелью.
Вероятно, даже наверное, рисунки не были самостоятельны, со следами влияний и Кете Кольвиц, и Стейнлена, и Франса Мазерееля.
Это были видения немецкого концлагеря.
Видение девочки у колючей проволоки — с куклой без рук, с перебитыми ногами, с обрывками кукольного платья, девочка прижимала то, что осталось от куклы, то, что осталось от жизни.
И видение мальчика у барака, с обглоданной костью в руках и глазами мученика, которые и сейчас, когда я пишу эти строки, передо мной, живые…
И видение товарищей по лагерю, так прижавшихся друг к другу, что кажется, один вошел в другого, и в каждом можно угадать характер, хотя всех лиц, фигур не видно, только руки, только торс, только скулы, только профиль, только поворот плеча.
Сколько лет прошло с поры, когда открылись ему ворота лагеря! А он все рисовал лагерь, рисовал для себя, не выставляя. «Нарисовав то, что меня мучает, я от этого избавляюсь». Помолчав, добавил: «Я это забываю».
Но этого вернисажа смерти нельзя было забыть — ни ему, ни нам, смотревшим в молчании.
— Вы устали, — сказал он, наконец прервав томительную тишину, ушел куда-то в глубь кабинета, вернулся с новой папкой. — Вот полегче.
Стал накалывать на стены пейзажи — они были прелестны. Но раствор впечатлений от рисунков-видений был настолько насыщен, что ничего больше добавлять стало нельзя. Буриан почувствовал наше состояние. «Хватит. Теперь я покажу вам самое главное, и вы поймете, почему я привязан к этому дому навсегда».
По узкой лестнице вышли на балкон.
Справа сплошная зеленая стена, внизу Прага — вся.
Это могло соперничать разве с панорамой, открывавшейся на город со стены, там, где стоял и смотрел на Прагу в последний раз Юлиус Фучик.
…Здесь было все, что составляет извечное очарование Праги: и готика, и барокко, и собор святого Витта, и изгиб Влтавы, и прозелень Карлова моста, и зелень пражских аллей, наклоны терракотовых черепичных крыш, ползущий по страфонтенам зданий плющ, и даже часть магистрали, современной, только и напоминавшей, что действие происходит уже в конце пятидесятых годов нашего столетия.
Разом зажглись всюду внизу старинные чугунные фонари, такие же, какой был в «Вере Лукашовой».
На балконе стоял старый, ободранный, промытый дождями табурет, сделанный неизвестно в каком веке.
— Когда я сюда прихожу и сажусь на этот стул и смотрю, иногда удается что-то придумать, — сказал Буриан, помолчав.
Вернулись в кабинет. В доме горели какие-то странные лампы. Они не давали уюта, а только отбрасывали световые пятна.
— Про меня много пишут сейчас в газетах, — сказал Буриан, снимая со стен рисунки и складывая их в папки. — Пишут, что мои спектакли нехудожественны. А что такое художественно?
Самое печальное, что о его спектаклях писали правду.
Я видел его последние постановки — они не были художественными.
Что случилось?
Почему Буриан, сам воплощение художественности, выпускал вот уже второй сезон нехудожественные спектакли?
Я искал ответа. Ведь тут была драма театра, начавшего в столь трудные времена. Тут была драма художника.
Тут было, наконец, нечто тревожное, касавшееся не только Буриана и его дела в искусстве, — нас всех…
Я искал ответа, и не находил, и, быть может, не найду сейчас: ведь это книга наблюдений, а не теории, и вовсе не так просто то, что кажется таким несложным…
— Эмиль, — спросил я однажды Буриана, — почему ты не ставишь современных чешских пьес?
Играя изумление, он ответил вопросом: «А разве они есть?»
Да, они были, и сейчас их ставят не только в Праге, и были они тогда. Если не пьесы, то люди.
Но людей, писавших пьесы, я ни разу не встретил в его театре, не встречал их в его странном доме на Градчанах.
Он жил уединенно, больше того, отъединенно. В подполье, в лагере знал, что такое локоть друга, единомышленника, знал сердцем, кровью; я видел его рисунки, в них это все запечатлено. А тут…
Видимо, в искусстве, как в бою, без локтя нельзя.
И, видимо, в искусстве действуют так же, как в физике, законы сообщающихся сосудов.
А кроме того, дом на Градчанах — старинный, средневековый, не поселились ли в нем злые духи?
Впрочем, злых духов случалось мне видеть и в домах, вполне современных, нынешней постройки.
Духи приспосабливаются.
«Без лести преданные», как Аракчеев Александру I, ссорят, разъединяют. Убеждают хозяев дома, что вокруг завидуют, недооценивают, ненавидят.
И так мало-помалу создают вокруг хозяев зону пустыни.
Так бывало в искусстве. Может, не обошлось без духов и тут, в доме на Градчанах?
Он поехал на гастроли в Москву — давняя его мечта, мечта всех артистов «Дивадло 34». В театре был культ Москвы, чистый, трогательный, целомудренный. Москва — Мекка революции, и Москва — Мекка революционного искусства.
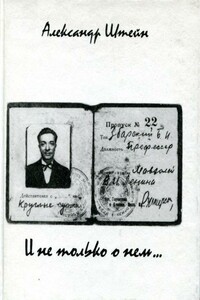
Повесть А. Штейна посвящена жизни, деятельности и драматической судьбе известного ученого-биохимика Бориса Ильича Збарского, получившего и выполнившего правительственное задание — физически сохранить тело Ленина. Судьба Збарского прочно вписана в свое время, а это — двадцатые, тридцатые, сороковые, пятидесятые годы. Писатель рассказывает о трагедии, которую видел и пережил сам, о том, что испытали и пережили его близкие и родные.
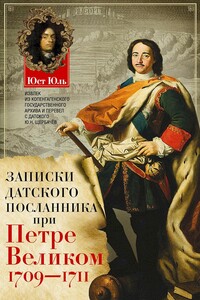
В год Полтавской победы России (1709) король Датский Фредерик IV отправил к Петру I в качестве своего посланника морского командора Датской службы Юста Юля. Отважный моряк, умный дипломат, вице-адмирал Юст Юль оставил замечательные дневниковые записи своего пребывания в России. Это — тщательные записки современника, участника событий. Наблюдательность, заинтересованность в деталях жизни русского народа, внимание к подробностям быта, в особенности к ритуалам светским и церковным, техническим, экономическим, отличает записки датчанина.

«Время идет не совсем так, как думаешь» — так начинается повествование шведской писательницы и журналистки, лауреата Августовской премии за лучший нон-фикшн (2011) и премии им. Рышарда Капущинского за лучший литературный репортаж (2013) Элисабет Осбринк. В своей биографии 1947 года, — года, в который началось восстановление послевоенной Европы, колонии получили независимость, а женщины эмансипировались, были также заложены основы холодной войны и взведены мины медленного действия на Ближнем востоке, — Осбринк перемежает цитаты из прессы и опубликованных источников, устные воспоминания и интервью с мастерски выстроенной лирической речью рассказчика, то беспристрастного наблюдателя, то участливого собеседника.

«Родина!.. Пожалуй, самое трудное в минувшей войне выпало на долю твоих матерей». Эти слова Зинаиды Трофимовны Главан в самой полной мере относятся к ней самой, отдавшей обоих своих сыновей за освобождение Родины. Книга рассказывает о детстве и юности Бориса Главана, о делах и гибели молодогвардейцев — так, как они сохранились в памяти матери.
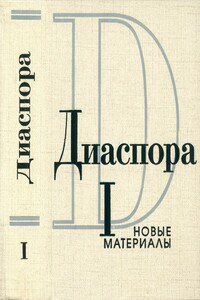
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поразительный по откровенности дневник нидерландского врача-геронтолога, философа и писателя Берта Кейзера, прослеживающий последний этап жизни пациентов дома милосердия, объединяющего клинику, дом престарелых и хоспис. Пронзительный реализм превращает читателя в соучастника всего, что происходит с персонажами книги. Судьбы людей складываются в мозаику ярких, глубоких художественных образов. Книга всесторонне и убедительно раскрывает физический и духовный подвиг врача, не оставляющего людей наедине со страданием; его самоотверженность в душевной поддержке неизлечимо больных, выбирающих порой добровольный уход из жизни (в Нидерландах легализована эвтаназия)

У меня ведь нет иллюзий, что мои слова и мой пройденный путь вдохновят кого-то. И всё же мне хочется рассказать о том, что было… Что не сбылось, то стало самостоятельной историей, напитанной фантазиями, желаниями, ожиданиями. Иногда такие истории важнее случившегося, ведь то, что случилось, уже никогда не изменится, а несбывшееся останется навсегда живым организмом в нематериальном мире. Несбывшееся живёт и в памяти, и в мечтах, и в каких-то иных сферах, коим нет определения.