Повесть о том, как возникают сюжеты - [95]
Такого же исступленного фанатизма и слепой веры в то, что он делал, хотел не только от коллектива артистов, им руководимого, но и от зрителя.
А зритель часто не понимал и не принимал то, что он делал, особенно в последний год его жизни.
И это было самое трагическое для него как художника.
До меня уже доходили в Москву слухи о том, что в театре «Д-34» неладно. Слышал о конфликте Эмиля с актерами: часть из них собиралась уходить из театра. О статье известного чешского критика, резко выступившего против репертуарной политики театра. О выступлении молодого талантливого чешского драматурга против театра «Д-34» и против Буриана; мне казалось, в искусстве оба они должны быть заодно.
Но все эти слухи померкли перед тем, что я увидел сам, снова попав в Прагу и в театр под землей…
Половина изящного театрального зала была отгорожена, отделена тяжелым, свисающим сверху занавесом — придумал Буриан, военная хитрость, скрыть пустые кресла. Занавес мог закрыть десять, пятнадцать, двадцать рядов — таково было его устройство.
И закрывал.
Заняты были, когда я пришел в театр, первые пять, ну, шесть рядов.
Зал был мертв. И мертво было все то, что происходило на сцене.
Одного фанатизма для того, чтобы заставить зрителя ходить в театр, оказывается, мало.
Занавес, отгораживающий большую часть зала, как мне сказали, был нужен часто.
И вот у него в квартире на Градчанах, он в домашней куртке, что-то болит у него, он не говорит, я не спрашиваю, и снова, без всякой связи, все тот же вопрос: «Ты скажи, скажи мне, что такое художественно?»
Я шучу: «Вот ты и твоя квартира — это художественно». Он досадливо отмахивается, ему не до шуток, хотя я вовсе и не шутил.
Квартира? Так ее не назовешь. Может быть, часть средневекового замка, где поселились на время люди двадцатого века. Никаких атрибутов насиженного, обжитого, домашнего. И все-таки это его дом, атрибуты его жизни, его вкус, его изящная, великолепная небрежность артиста и его отрешенность революционера от повседневного, бытового, небрежение модой. Не было входивших в моду чешских свечей, зеленых, розовых, черных, в чугунных подсвечниках, которыми тогда были полны витрины пражских магазинов. Здесь свечи в подсвечниках были бы так «к лицу», но их-то как раз нет, нет и ярких модных тканей со странным рисунком и модных разноцветных стен. Стены белые, скорей чуть серые, оштукатуренные — и только. Стол, горка, два кресла рыцарских времен, высокие, с прямыми спинками, с жесткими сиденьями, два — на всю огромную пустую и пустынную комнату. По случаю прихода гостей вкатили еще два — обиты какой-то тканью, не то что бы современной, но и не старинной, обивка потертая, слинявшая. Если б меж ручками протянуть шнурок, какой мы часто видим в музеях, — знак того, что садиться нельзя (памятник старины, охраняется государством!), мы бы нисколько не удивились.
Не там, где полагалось бы, шкаф, застекленный, набитый коллекцией чешского народного фарфора, тоже старинного: фривольные пастушки, жирные капелланы, заглядывающие им под подол, дамы в кринолинах, дамы в каретах, дамы в кровати, рыцари, придворные — все это не расставлено, несимметрично.
Я люблю бывать в чужих квартирах: иногда поразителен контраст между вещами и людьми, иногда так же поразительна слитность людей и вещей.
При всей кажущейся нелюдимости буриановской квартиры в ней было как раз второе.
Сузанна Кочева вынесла большое блюдо, плоское, овальное. На нем было угощение, каждый мог взять то, что выбрал. Блюдо подано, и к «этому вопросу» больше не возвращались.
И это было тоже в стиле дома и его хозяина. И хозяйка под стать: возбужденная, наэлектризованная, угловатая, резковатая в движениях, в суждениях, беспрерывно курившая, — вот уж не веяло от нее уютом!
Вот такой же угловатой, резковатой играла она пушкинскую Татьяну и жену короля нищих в брехтовской «Опере нищих».
Ей не было особого дела до быта в этом доме, у нее был другой дом — кулисы, спектакль. Там была ее жизнь.
Буриан ничего не ел, сидел перед пустой тарелкой, курил, спрашивал о Москве.
Открылась какая-то дверь, мне она показалась потайной, тут все двери казались потайными. Выскочил мальчик, шестилетний крепыш, голубоглазый толстячок. Если и похож на кого-нибудь, то скорей всего на Швейка — бравый солдат должен был именно так выглядеть в детстве.
Сын Буриана.
И если плоть покидала Буриана-отца, то в Буриане-сыне она бурлила.
Чешские ребята на редкость вежливы, воспитанны. И этот был такой: поздоровался с гостями почтительно, с достоинством, с таким же достоинством уселся за стол, не мешая беседе взрослых, только время от времени шептал матери: «Мамичко, шинки», — что означало: «Мамочка, ветчины».
Аппетит у него был швейковский.
…По лестнице, скрипящей под ногами, идущей вдоль высокой стены, поднялись наверх, заглянули в спальню, такую же аскетическую, без убранства, словно бы тут на досках и соломе спит Ян Жижка. Старинное зеркало, туманно отражавшее лица. На стенах скульптурные изображения святых, подчеркивающие аскетичность обстановки.
Пришли в кабинет. Фолианты с закладками, толстые папки клавиров, монографии — тоже с закладками. Музыкальные инструменты, клавесины. Все это хотелось рассматривать подолгу. Но больше всего привлекал сам Буриан. Показывал старину, объяснял историю каждого предмета, потом стал открывать папки на столах, в углах. Только теперь я заметил: папками забита вся комната.
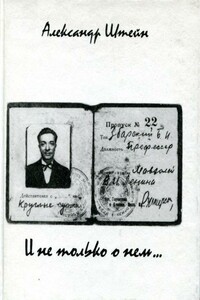
Повесть А. Штейна посвящена жизни, деятельности и драматической судьбе известного ученого-биохимика Бориса Ильича Збарского, получившего и выполнившего правительственное задание — физически сохранить тело Ленина. Судьба Збарского прочно вписана в свое время, а это — двадцатые, тридцатые, сороковые, пятидесятые годы. Писатель рассказывает о трагедии, которую видел и пережил сам, о том, что испытали и пережили его близкие и родные.
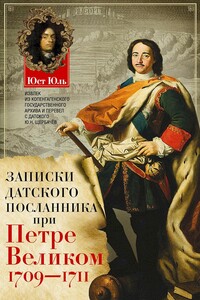
В год Полтавской победы России (1709) король Датский Фредерик IV отправил к Петру I в качестве своего посланника морского командора Датской службы Юста Юля. Отважный моряк, умный дипломат, вице-адмирал Юст Юль оставил замечательные дневниковые записи своего пребывания в России. Это — тщательные записки современника, участника событий. Наблюдательность, заинтересованность в деталях жизни русского народа, внимание к подробностям быта, в особенности к ритуалам светским и церковным, техническим, экономическим, отличает записки датчанина.

«Время идет не совсем так, как думаешь» — так начинается повествование шведской писательницы и журналистки, лауреата Августовской премии за лучший нон-фикшн (2011) и премии им. Рышарда Капущинского за лучший литературный репортаж (2013) Элисабет Осбринк. В своей биографии 1947 года, — года, в который началось восстановление послевоенной Европы, колонии получили независимость, а женщины эмансипировались, были также заложены основы холодной войны и взведены мины медленного действия на Ближнем востоке, — Осбринк перемежает цитаты из прессы и опубликованных источников, устные воспоминания и интервью с мастерски выстроенной лирической речью рассказчика, то беспристрастного наблюдателя, то участливого собеседника.

«Родина!.. Пожалуй, самое трудное в минувшей войне выпало на долю твоих матерей». Эти слова Зинаиды Трофимовны Главан в самой полной мере относятся к ней самой, отдавшей обоих своих сыновей за освобождение Родины. Книга рассказывает о детстве и юности Бориса Главана, о делах и гибели молодогвардейцев — так, как они сохранились в памяти матери.
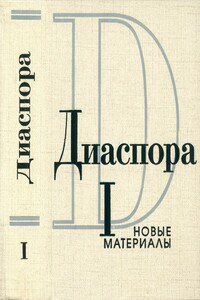
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поразительный по откровенности дневник нидерландского врача-геронтолога, философа и писателя Берта Кейзера, прослеживающий последний этап жизни пациентов дома милосердия, объединяющего клинику, дом престарелых и хоспис. Пронзительный реализм превращает читателя в соучастника всего, что происходит с персонажами книги. Судьбы людей складываются в мозаику ярких, глубоких художественных образов. Книга всесторонне и убедительно раскрывает физический и духовный подвиг врача, не оставляющего людей наедине со страданием; его самоотверженность в душевной поддержке неизлечимо больных, выбирающих порой добровольный уход из жизни (в Нидерландах легализована эвтаназия)

У меня ведь нет иллюзий, что мои слова и мой пройденный путь вдохновят кого-то. И всё же мне хочется рассказать о том, что было… Что не сбылось, то стало самостоятельной историей, напитанной фантазиями, желаниями, ожиданиями. Иногда такие истории важнее случившегося, ведь то, что случилось, уже никогда не изменится, а несбывшееся останется навсегда живым организмом в нематериальном мире. Несбывшееся живёт и в памяти, и в мечтах, и в каких-то иных сферах, коим нет определения.