Повесть о том, как возникают сюжеты - [23]
Петербург, Петроград, Ленинград, Кронштадт, Москва…
И снова — Кронштадт, последний.
…Там, в квартире Лавренева, помнится, вглядывался в его портреты, их несколько, в разных манерах и в разные времена.
Похожие — и непохожие.
Наверно, трудно живописцу портретом сказать о пути из дореволюционного царского Петербурга в нынешнюю, советскую Москву, о прихоти лавреневской натуры, «необычной» ее «коллизии», где все переплелось, сплелось, и Севастополь 1942 года, и тот, нахимовский, деда Ксаверия Цехановича. Изящество петербургской гравюры на дереве, и тревожная, полная предчувствий чернота октябрьской ночи, и грубоватый фольклор матросских бронепоездов, и полыханье всеми отливами радуги малиновых, апельсиновых, лимонных, изумрудных, бирюзовых, лиловых кожаных курток Туркестанской Красной Армии, — время «грохотное, смутное, кожаное»…
А быть может, будь я живописцем, я бы написал Лавренева неистовым Беком-Антидюрингом, подкатившим к редакции «Туркестанской правды» на ветхом велосипеде, в почерневшей длинной артиллерийской шинели…
А быть может, с трудом идущим по трапу, колеблемому волнами и ветром… Ветер треплет флаг на корме, и стучит волной о стальной бок корабля, и негодующе атакует лавреневскую мягкую, «штатскую» шляпу…
Флот. «Влеченье, род недуга…».
СВЯТОЙ ИСААКИЙ
Снова тянется справа прибрежная бровка, до Ленинграда еще плыть и плыть. А на палубе русская, с нерусским акцентом (как это не приметил я ее раньше, и ее нестареющую стать, и нелепую шляпку ее со страусовым пером, точь-в-точь какие носили модницы в канун первой мировой войны) то ли шепчет, то ли напевает ломающимся от прожитых лет или от волнения, щемяще-фальшивым голоском:
Актриса? Из бывших бестужевок? Или дама из общества?
Откуда плывет к приневским берегам? Что ее привело сюда? Неизлечимая болезнь, кажется, и не упоминаемая в медицинских справочниках: тоска по родине, ностальгия?
Сорок четвертый год. Возвращаюсь в Москву после поездки на Ленинградский фронт, весь еще там, в наступлении, под Гатчиной, и под Петергофом, и в Павловске, и на Ленинградской малой земле, и под Нарвой, там, где конец блокады, где стал виден конец войны.
«Отписываюсь». Один за другим появляются в газете очерки о поездке, и в награду получаю два билета на вечер в офицерский клуб.
На Пушечной, где нынче Дом учителя, — Вертинский, только что приехавший из Шанхая, дает офицерам флота свой чуть ли не первый концерт.
Не пластинка — Вертинский. Вертинский — человек.
Бледный, видно, как дрожат длинные, наэлектризованные пальцы, исполненные музыкального артистизма, и голос тоже чуть дрожит, выдавая необычное волнение, и еще подчеркнутей грассирование.
Нервничает. Всматривается в зал.
Слушают его поначалу вежливо, но суховато, настороженно, еще сами не знают, как себя вести: не пластинка, черт возьми, хрипя, крутится на вечеринке, — сам, реальный упадочник, белоэмигрант.
И косятся, когда какая-нибудь из офицерских жен хлопает не в меру.
Вертинский нервничает все больше.
Атмосфера настороженности сопровождает все первое отделение.
Второе — цикл «Тоска по родине», «Сумасшедший шарманщик», «В степи молдаванской», «Чужая вода, чужие города». Это — о себе, о своих скитаниях по белу свету, о том, как гонят опавшие листья «ветров табуны».
Отступила бананово-лимонно-сингапуровая пошловатая изысканность, осыпалась мишура и позолота кабацких елочных украшений, осталась лицом к лицу с залом многолетняя тоска, звериное одиночество в чужих гостиницах. Все она же, ностальгия, неизлечимая болезнь.
И человеческая боль.
И талант, не растраченный до конца по чужим салонам и чужим кабакам.
Возвращение состоялось.
На палубе все шепчет-напевает дама с приобретенным на чужбине нерусским акцентом:
Память подводит, путает слова, а слова смешные, разудалые, голосок дребезжит трагически, и по щекам текут слезки, и качается страусовое перо на бедной шляпке…
В двадцать четвертом году, весной, в белую ночь, забрался я под купол Исаакиевского собора, еще не отдышавшись от восхождения по нескончаемым маршам и виткам и вновь задохнувшись, но на этот раз от перехватившего горло изумления, неслыханного восторга: внизу, в странном, в безлунном по-пушкински блеске лежали дома, отражавшиеся в тугой, неподвижной воде каналов, и ампирная желтизна дворцов, и фисташковый строгий профиль Университета, и египетские сфинксы, с недоумением взирающие на то, что катит под их каменными лапами не желтый Нил, а свинцовая Нева.
А рядом со мною, задержав дыхание, подавленная нечеловеческой красотой того, что внизу, тоненькая-тоненькая девушка в плоских туфельках без каблуков с милыми детскими перепоночками. Чуть раскосые глаза, не то японские, не то монгольские, детские ямочки на щеках, кажется, будто бы она не перестает смеяться. И оттого, что она тут, рядом, то, что внизу, еще невероятней.
И еще пленительней.
Это на всю жизнь.
В необъяснимый этот город, с его белыми ночами, с его туманными испарениями, в город на болотах, коему давно напророчено «быть пусту», стекалась в начале двадцатых годов молодежь со всех концов России. Девушка добиралась сюда через кордон, из далекого Цицикара, это на Китайско-Восточной железной дороге, жила с родителями уютно, спокойно, кинула все — и сюда, в Петербург, в Петроград, в Ленинград.
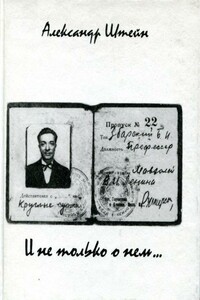
Повесть А. Штейна посвящена жизни, деятельности и драматической судьбе известного ученого-биохимика Бориса Ильича Збарского, получившего и выполнившего правительственное задание — физически сохранить тело Ленина. Судьба Збарского прочно вписана в свое время, а это — двадцатые, тридцатые, сороковые, пятидесятые годы. Писатель рассказывает о трагедии, которую видел и пережил сам, о том, что испытали и пережили его близкие и родные.
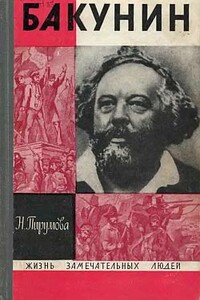
Михаил Александрович Бакунин — одна из самых сложных и противоречивых фигур русского и европейского революционного движения…В книге представлены иллюстрации.

Предлагаем третью книгу, написанную Кондратием Биркиным. В ней рассказывается о людях, волею судеб оказавшихся приближенными к царствовавшим особам русского и западноевропейских дворов XVI–XVIII веков — временщиках, фаворитах и фаворитках, во многом определявших политику государств. Эта книга — о значении любви в истории. ЛЮБОВЬ как сила слабых и слабость сильных, ЛЮБОВЬ как источник добра и вдохновения, и любовь, низводившая монархов с престола, лишавшая их человеческого достоинства, ввергавшая в безумие и позор.

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.