Повесть о том, как возникают сюжеты - [22]
В софитах теории бесконфликтности, то, что на самом деле являлось лавреневской добродетелью, отсвечивало злонамеренностью, пороком.
С осуждением произносилось довольно точное определение доминанты лавреневского творчества:
«Ищет необычных коллизий, возвышенной героики, сильных чувств и страстей».
Он и в самом деле искал все перечисленное.
…Как искал все перечисленное ста годами раньше автор «Мцыри», «Демона», «Кавказского пленника».
…Как искал все перечисленное двумя тысячами лет раньше автор «Медеи» Еврипид. И — двумя тысячами лет позже — Николай Охлопков, поставивший в зале Чайковского «Медею», трагедию античного мира, — в ней мы увидели и «возвышенную героику», и «сильные чувства и страсти», и более чем «необычную коллизию» — мать убивает собственных детей — куда больше! И боги ведут себя тоже не очень похвально — прощают Медею, забирают ее к себе, на божью гору Олимп. Что делалось, однако, в античные времена!
…Как искал все перечисленное уже в наши времена, в пятидесятые годы двадцатого столетия и три десятилетия спустя после выхода на экран протазановского «Сорок первого» молодой ученик Михаила Ромма, еще никому не ведомый Григорий Чухрай. Искал — по внутренней необходимости.
Чухрай пришел в кино, ведя календарь своей самостоятельной биографии от лавреневского «Сорок первого», от лавреневской «возвышенной героики», от его «необычных коллизий». Я помню, как робко стучался он в низенькую калитку лесного домика на улице Лермонтова, увитую плющом, впервые придя к Лавреневу, и как Лавренев, после этого визита прибежав ко мне украдкой от жены выкурить запретную папироску, воодушевленно говорил о смелости молодых ребят, которые «перевернут чертовыми тормашками гнилые порядки в кинематографическом департаменте». В выражениях своих чувств, как известно, Борис Андреевич никогда не стеснялся.
Чухрай ощутил, в чем сила Лавренева, — и сила писателя стала силой режиссера.
Нельзя выбивать из-под ног художника то, на чем он стоит. Когда Лавренев «прятал» свой голос, пускался в чуждые ему глубокомысленно-философские дебри, получалась пьеса «Враги», ненатуральная, мелодраматическая, со скучными теоретическими панацеями, из которых выходило, например, что голос крови, биологические законы определяют, кому на какой стороне баррикады быть, и что голос крови сильнее долга воина.
Как будто бы сам Лавренев собственной биографией, жизнью своей не опроверг этот биологический «закон». И как будто «Сорок первый» писал кто-то другой, не Лавренев.
Не своим голосом говорил Лавренев и в романе «Синее и белое», и роман не был дописан, он к нему собирался вернуться, пересмотреть, переписать…
А сказанное Лавреневым по-лавреневски осталось жить, и «Разлом» ожил, как и «Сорок первый», спустя десятилетия, и снова пошел по стране и за границу.
Я видел «Разлом» тот, первый, и видел «Разлом», премьеру его в пятидесятые годы на сцене Художественного театра, и со мною рядом сидел Борис Андреевич Лавренев, и я следил не только за артистами, но и за ним, и он волновался и нервничал, и вскакивал с кресла, и снова садился, и снимал очки, и снова надевал их — словом, вел себя, как все начинающие авторы, хотя после первого своего «Разлома» он выходил кланяться не на одной новой своей премьере, и не в одном театре, и не в одном городе.
«Разлом» был ему дорог, как дорога отшумевшая юность. С первым «Разломом» пришла к нему любовь к женщине, длившаяся до конца жизни — ей, актрисе, Елизавете Гербаневской, ставшей потом его женой и другом, ей, первой, читал он куски новой пьесы в Ленинграде, на набережной Невы, у Литейного моста.
И это было причиной его необычайного юношеского волнения на премьере, но не главной. Ему радостно было видеть, что давно рожденное им не умерло. Лавренев не остыл к жизни, к литературе, к искусству, он никогда не был равнодушен: ни в молодости, ни в годы заката.
…Проплывают очертания Кронштадта, а мне видятся стены московской квартиры Лавренева, в мари́нах, в гравюрах, в портретах, рында на столике, корабельная, старинная, ее принесли ему в день шестидесятилетия два ученика, выискали в антиквариате и купили, сложившись. Весь день шестидесятилетия он отбивал склянки, они звенели мелодично, и он с наслаждением прислушивался.
Вижу опустевшую его, молчащую, холодноватую квартиру, вижу, как в окна входит властно, деловито Москва — с контуром высотного здания на Смоленской площади, со сказочно подсвеченной воздушной подушкой над бассейном «Москва» на старой Волхонке, со снующими по белому снегу бессчетными черными фигурками… Москва, голубовато-сизая в предвечерний, смутноватый и одновременно резко прочерчивающий линии и очертания, черноту и белизну, январский, морозный, чем-то неясно грустный и неясно прекрасный час. День уже ушел, вечер еще не явился. Не светло, но и рубильник уличного освещения, делящий ночь и день, не включен. И в резкости предсумеречных тонов скорей угадывается изгиб замерзшей Москвы-реки, и черный, как в движущейся рекламе, пунктир точек-машин на набережной — и им, машинам, не пришло еще время включить подфарники. Почему-то припоминается узкая, снежная январская дорога в сороковом году, в Финляндии, на Петрозаводском направлении, вот так же двигались, не включая света, в предсумеречный час грузовики, санитарки, «эмки»…
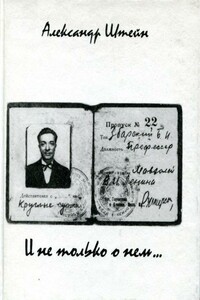
Повесть А. Штейна посвящена жизни, деятельности и драматической судьбе известного ученого-биохимика Бориса Ильича Збарского, получившего и выполнившего правительственное задание — физически сохранить тело Ленина. Судьба Збарского прочно вписана в свое время, а это — двадцатые, тридцатые, сороковые, пятидесятые годы. Писатель рассказывает о трагедии, которую видел и пережил сам, о том, что испытали и пережили его близкие и родные.
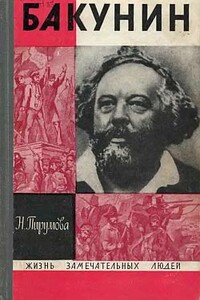
Михаил Александрович Бакунин — одна из самых сложных и противоречивых фигур русского и европейского революционного движения…В книге представлены иллюстрации.

Предлагаем третью книгу, написанную Кондратием Биркиным. В ней рассказывается о людях, волею судеб оказавшихся приближенными к царствовавшим особам русского и западноевропейских дворов XVI–XVIII веков — временщиках, фаворитах и фаворитках, во многом определявших политику государств. Эта книга — о значении любви в истории. ЛЮБОВЬ как сила слабых и слабость сильных, ЛЮБОВЬ как источник добра и вдохновения, и любовь, низводившая монархов с престола, лишавшая их человеческого достоинства, ввергавшая в безумие и позор.

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.