Повесть о двух головах, или Провинциальные записки - [12]
Зимним вечером в пятницу изцентрастремительно выскакиваешь из метро, мечешься по вокзальным перронам, вваливаешься в полутемный и полусонный вагон пригородной электрички, пропахший чебуреками, пивом, сигаретным дымом, тянущимся из тамбура, смотришь на бесконечный свет бесконечных вывесок за окном, сквозь который пробиваются крошечные битые пиксели морозной темноты, потом их становится больше, и свет распадается на круги фонарей и квадраты окон, потом окна с их шторами, кошками и столетниками на подоконниках понемногу отстают, и на платформе какого-нибудь сорок восьмого или сто второго километра одинокий колченогий фонарь стоит по колено в снегу и даже не пытается подойти посветить к открывшейся с воздушным шипением двери, из которой ты выходишь в такую непроглядную тьму, что в ней синуса от косинуса не отличить, спускаешься, чертыхаясь, по обледенелым ступенькам, идешь по узкой тропинке меж высоких сугробов, сопровождаемый лаем собак, долго гремишь жгучим от холода замком на двери дома, долго обметаешь в сенях снег с ботинок, включаешь свет, замерзший в лампочке за три месяца твоего отсутствия до состояния мелкой, крупитчатой серой пыли, садишься в старое продавленное кресло перед печкой, кладешь в нее измятые старые газеты, поверх них – березовую кору, поверх коры – дрова, зажигаешь спичку и, глядя на то, как разгорается огонь, чувствуешь… но сказать не умеешь, а откупориваешь привезенный с собой коньяк, набиваешь трубку, как следует уминаешь табак указательным пальцем, закуриваешь, выпускаешь один большой клуб дыма и два поменьше, и чувствуешь… но сказать не умеешь, а только смотришь и слушаешь, как разгорается в печке огонь, как трещат сухие березовые поленья, как свет в лампочке оттаивает, превращаясь из корпускул в волну, как под полом лихорадочно шуршит, будя детей, голодная, точно волк, мышь, многодетная семья которой уж и не чаяла дождаться твоего недоеденного бутерброда с копченой колбасой, и чувствуешь… но засыпа…
Самые хитрые на рынке – мясные торговки. Смотрят своими золотыми зубами прямо тебе в глаза и продают тощую постную грудинку нулевого номера как жирную шестого. Не продают – сватают. Послушать их – так эту грудинку только обеими руками и держать, а не варить во щах. Гуси у них – по четыреста рублей килограмм! Вот где настоящий конец света. По такой цене каждого гуся надо продавать со свидетельством о том, что он налетал не менее сотни часов. Вкрадчивее мясных торговок только узбеки, торгующие специями. Эти могут щепотку зиры или молотого красного перца насыпать в крошечный бумажный кулек размером с наперсток десятью или даже двадцатью взмахами кукольной чайной ложки. Двадцать первая ложка, в которой лежат незаметные невооруженному глазу две с половиной крупинки, называется у них «с походом».
Венёв
На Красной площади тихо и туманно. Сонные куры по случаю субботы бродят молча, чтобы не будить своих и чужих хозяев. Молча крадется за ними черный с белыми лапами кот. Молча стоят старые, облупившиеся дома. В одном из домов из окошка первого этажа молча смотрит на кур большой и розовый игрушечный слон. Розовый мех его уже порядком вытерся, выцвел, но улыбается слон по-прежнему – изо всех сил. На слона не мигая, молча смотрит с высокого белого постамента голова Ильича, выкрашенная серебрянкой. Молчит колокольня разрушенной Николаевской церкви. Не молчат только березы, растущие у домов, у колокольни, у крашеной головы, у черного обелиска двум чекистам, но деревья разговаривают сами с собой, шепотом и такой скороговоркой, что как ни прислушивайся – ничего не разберешь. В Венёве много берез, да и само название города переводится с языка финно-угорских племен как Березов. Эти племена пришли сюда первыми. Венёвой они называли березу. Кроме этого нежно зеленого, покатого, точно женское плечо, мягко округляющего губы и прохладного на языке слова, ничего от этих племен и не осталось. Вслед за ними пришли вятичи и радимичи, от которых не осталось даже и слова, а только многочисленные обломки глиняных горшков, рыболовные крючки, наконечники стрел и непременные женские височные кольца, чаще которых в наших провинциальных музеях встречаются только бивни да зубы мамонтов. Наверняка их донашивали женщины полян и древлян, вытеснившие вятичей с радимичами. Потом все как у всех: татары пришли – грабят, поляки пришли – тоже грабят, московские князья… нечего и говорить про московских князей. Про них, однако, и сейчас лучше помалкивать. Тут бы надо рассказать о золотом веке Венёва – ведь у каждого города было[5] такое время, когда он процветал. Но… не было в Венёве ни купцов-миллионеров, ни золотых приисков, не строились в городе ни дворцы, ни грандиозные соборы, не дымили заводы с фабриками, и не прославились на всю Россию венёвские медовые пряники. То есть один купец-миллионер был, но для того чтобы им стать, пришлось ему уехать в Москву. Что же до золота, то больше всего его на городском гербе – на золотой хлебной мере, что на нем нарисована. Впрочем, вместо золота в Венёве алмазы. Много алмазов. Вот только они мелкие и технические. Есть в городе завод по изготовлению алмазного инструмента. Но маленький. Немногим больше сотни человек там работает. Раньше было больше. Двести или даже двести пятьдесят. Про дворцы и говорить нечего. Зато стоял на Красной площади храм с высоченной красавицей колокольней. Полтора века простоял и… разобрали его в конце сороковых. Хотели и колокольню взорвать, да побоялись, что обломки на дома упадут. Теперь, само собой, хотят как лучше – то есть все восстановить или хотя бы колокольню отреставрировать, да получается как всегда, в том смысле, что денег нет… так не пойдет. Так можно и до слез дойти, а надо бы наоборот. И повод есть – ведь не где-нибудь, а именно в Венёвском уезде родился знаменитый поручик Ржевский, герой бесчисленных анекдотов. Это все равно что родина Штирлица, только того выдумал из головы писатель Семенов, а Сергей Семенович Ржевский был на самом деле. Правда, он не пил вина, терпеть не мог карт и даже не интересовался женщинами, но кто старое помянет… Вот кто мог бы стать градообразующим предприятием Венёва! Представляю себе ресторан под вывеской «Гусары, молчать!». Полусладкое шампанское «Наташа Ростова» и крепкая горькая настойка «Пьер Безухов». Отель с огромной бальной залой. На берегу реки Венёвки – пристань с лодками, чтобы по ночам скрип уключин, женский визг и крики
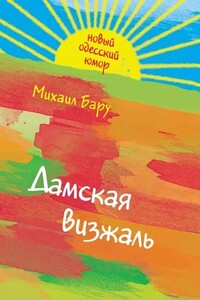
Перед вами неожиданная книга. Уж, казалось бы, с какими только жанрами литературного юмора вы в нашей серии не сталкивались! Рассказы, стихи, миниатюры… Практически все это есть и в книге Михаила Бару. Но при этом — исключительно свое, личное, ни на что не похожее. Тексты Бару удивительно изящны. И, главное, невероятно свежи. Причем свежи не только в смысле новизны стиля. Но и в том воздействии, которое они на тебя оказывают, в том легком интеллектуальном сквознячке, на котором, читая его прозу и стихи, ты вдруг себя с удовольствием обнаруживаешь… Совершенно непередаваемое ощущение! Можете убедиться…

Внимательному взгляду «понаехавшего» Михаила Бару видно во много раз больше, чем замыленному глазу взмыленного москвича, и, воплощенные в остроумные, ироничные зарисовки, наблюдения Бару открывают нам Москву с таких ракурсов, о которых мы, привыкшие к этому городу и незамечающие его, не могли даже подозревать. Родившимся, приехавшим навсегда или же просто навещающим столицу посвящается и рекомендуется.

«Тридцать третье марта, или Провинциальные записки» — «книга выходного дня. Ещё праздничного и отпускного… …я садился в машину, автобус, поезд или самолет и ехал в какой-нибудь маленький или не очень, или очень большой, но непременно провинциальный город. В глубинку, другими словами. Глубинку не в том смысле, что это глухомань какая-то, нет, а в том, что глубина, без которой не бывает ни реки настоящей, ни моря, ни даже океана. Я пишу о провинции, которая у меня в голове и которую я люблю».
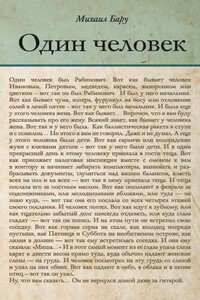
«Проза Миши Бару изящна и неожиданна. И, главное, невероятно свежа. Да, слово «свежесть» здесь, пожалуй, наиболее уместно. Причем свежесть не только в смысле новизны стиля. Но и в том воздействии, которое эта проза на тебя оказывает, в том лёгком интеллектуальном сквознячке, на котором ты вдруг себя обнаруживаешь и, заворожённый, хотя и чуть поёживаясь, вбираешь в себя этот пусть и немного холодноватый, но живой и многогранный мир, где перезваниваются люди со снежинками…»Валерий Хаит.

Любить нашу родину по-настоящему, при этом проживая в самой ее середине (чтоб не сказать — глубине), — дело непростое, написала как-то Галина Юзефович об авторе, чью книгу вы держите сейчас в руках. И с каждым годом и с каждой изданной книгой эта мысль делается все более верной и — грустной?.. Михаил Бару родился в 1958 году, окончил МХТИ, работал в Пущино, защитил диссертацию и, несмотря на растущую популярность и убедительные тиражи, продолжает работать по специальности, любя химию, да и не слишком доверяя писательству как ремеслу, способному прокормить в наших пенатах. Если про Клода Моне можно сказать, что он пишет свет, про Михаила Бару можно сказать, что он пишет — тишину.

Стилистически восходящие к японским хокку и танка поэтические миниатюры давно получили широкое распространение в России, но из пишущих в этой манере авторов мало кто имеет успех, сопоставимый с Михаилом Бару из Подмосковья. Его блистательные трех– и пятистишья складываются в исполненный любви к людям, природе, жизни лирический дневник, увлекательный и самоироничный.
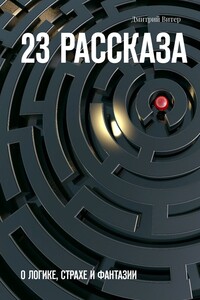
«23 рассказа» — это срез творчества Дмитрия Витера, результирующий сборник за десять лет с лучшими его рассказами. Внутри, под этой обложкой, живут люди и роботы, артисты и животные, дети и фанатики. Магия автора ведет нас в чудесные, порой опасные, иногда даже смертельно опасные, нереальные — но в то же время близкие нам миры.Откройте книгу. Попробуйте на вкус двадцать три мира Дмитрия Витера — ведь среди них есть блюда, достойные самых привередливых гурманов!

Рассказ о людях, живших в Китае во времена культурной революции, и об их детях, среди которых оказались и студенты, вышедшие в 1989 году с протестами на площадь Тяньаньмэнь. В центре повествования две молодые женщины Мари Цзян и Ай Мин. Мари уже много лет живет в Ванкувере и пытается воссоздать историю семьи. Вместе с ней читатель узнает, что выпало на долю ее отца, талантливого пианиста Цзян Кая, отца Ай Мин Воробушка и юной скрипачки Чжу Ли, и как их судьбы отразились на жизни следующего поколения.

Генерал-лейтенант Александр Александрович Боровский зачитал приказ командующего Добровольческой армии генерала от инфантерии Лавра Георгиевича Корнилова, который гласил, что прапорщик де Боде украл петуха, то есть совершил акт мародёрства, прапорщика отдать под суд, суду разобраться с данным делом и сурово наказать виновного, о выполнении — доложить.

