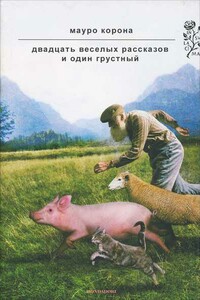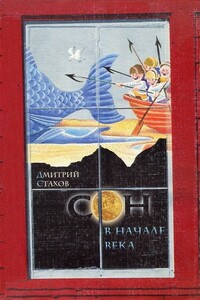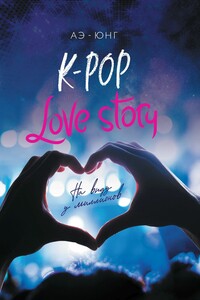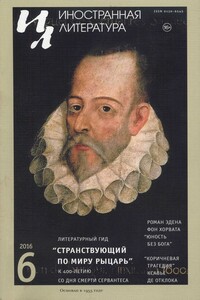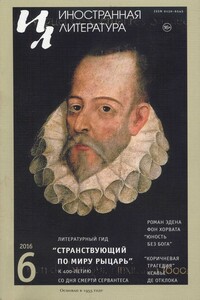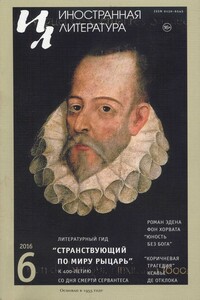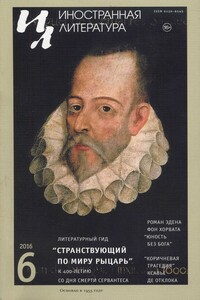Если по ночам моя тоска по отцу особенно обострялась, я ставил музыку. Не обязательно Хендрикса. Обычно я слушал блюзы. В основном Роберта Джонсона. Я сразу понял, услышав его голос впервые: Роберт Джонсон понимал, каково быть индейцем на пороге двадцать первого века, хотя был чернокожим в начале двадцатого. Наверно, примерно то же самое почувствовал мой отец, услышав Хендрикса. Почувствовал, стоя под проливным дождем в Вудстоке.
И вот в одну из ночей, когда я вконец истосковался — лежал на кровати и плакал, зажав в руках фото, где отец колотит рядового Национальной гвардии, — я придумал, что к дому как бы подъезжает мотоцикл. Я знал, что это мне мерещится, но на миг разрешил себе поверить, будто так и есть взаправду.
— Виктор, — заорал отец. — Поехали кататься.
— Сейчас спущусь. Только куртку надену.
Я вихрем пронесся по комнатам, надел носки и ботинки, напялил куртку, выскочил наружу. На дорожке, ведущей от ворот к гаражу, пусто. Мертвая тишина, какая бывает только в резервациях: если кто-то пьет виски со льдом, звон слышен за три мили. Я стоял на крыльце и ждал, пока не вышла мать.
— Иди домой, — сказала она. — Холодно.
— Не пойду, — сказал я. — Сегодня ночью он вернется. Я знаю точно.
Мать ничего не сказала. Просто накинула мне на плечи свое любимое лоскутное одеяло и ушла спать. Я всю ночь простоял на крыльце, внушая себе, что слышу мотоциклы и гитары, пока не рассвело. Солнце светило так ярко, что я понял: пора вернуться в дом, к маме. Она приготовила нам обоим завтрак, и мы наелись от пуза.