Постмодерн в изложении для детей - [2]
По указанию Альбрехта Велмера, наш философ считает, что целебным средством от такого раздробления культуры и ее оторванности от жизни может быть лишь «изменение статуса эстетического опыта, когда он уже не перелагается прежде всего в суждения вкуса», но «используется для прояснения исторической ситуации жизни». Тогда этот опыт «вступает в языковую игру, которая уже не является игрой эстетической критики», он вторгается «в когнитивные толкования и нормативные ожидания и изменяет тот способ, каким все эти моменты соотносятся друг с другом». Короче, Хабермас требует от искусств и поставляемого ими опыта перебросить мост над бездной, разделяющей дискурсы познания, этики и политики, и проложить тем самым путь к некоему единству опыта.
Мой вопрос: о какого рода единстве мечтает Хабермас? Является ли целью проекта современности построение социокультурного единства, в лоне которого все элементы повседневной жизни и мышления найдут себе место, как в некотором органическом целом? Или же тот проход, который надлежит пробить между гетерогенными языковыми играми — играми знания, этики и политики, — относится к иному строю, чем они сами? И если так, то каким образом сумеет он реализовать их действительный синтез?
Первая гипотеза, навеянная гегелевским духом, не ставит под вопрос идею диалектически тотализующего опыта; вторая ближе по духу к «Критике способности суждения», однако, как и эта последняя, должна быть подвергнута жесткой перепроверке, которую постсовременность задает просвещенческому мышлению, идее унитарной цели истории и идее субъекта. Это именно та критика, начало которой положили не только Витгенштейн и Адорно, но и ряд других мыслителей, в том числе и французы, которые не удостоились чести быть прочитанными профессором Хабермасом, — что, по крайней мере, позволило им избежать занесения в черный список неоконсерваторов.
Запросы, которые я привел вначале, не вполне равноценны. Они могут даже противоречить друг другу. Одни высказаны во имя постмодернизма, другие имеют в виду борьбу с ним. Не обязательно просить, чтобы нас обеспечили референтом (и объективной реальностью) и смыслом (и вероятной трансцендентностью), или адресатом (и публикой), или отправителем (и субъективной экспрессивностью), или коммуникационным консенсусом (и всеобщим кодом взаимопонимания, например в форме исторического дискурса). Но во всех этих многообразных приглашениях приостановить творческое экспериментаторство налицо один и тот же призыв к порядку, желание единства, идентичности, безопасности, общедоступности (в смысле Ôffentlichkeit и желания «найти публику»). Художников и писателей надлежит вернуть в лоно общества или же, если последнее оценивается как больное, по крайней мере возложить на них ответственность за его исцеление.
У этой всеобщей тенденции есть один безошибочный признак: для всех этих авторов нет задачи настоятельней, чем ликвидация наследия авангардов. Особенно торопится решить ее так называемый трансавангардизм. Ответы французским критикам от одного их итальянского коллеги не оставляют сомнений на этот счет. Переходя к смеси авангардов, художник или критик могут быть больше уверены в том, что их удастся уничтожить, чем если бы атаковали их открыто. Самый циничный эклектизм они могут выдать за достижение, которое преодолевает частичный, в принципе, характер прежних экспериментов. Открыто повернувшись к ним спиной, они бы выставили себя на посмешище неоакадемизму. В пору самоутверждения буржуазии в истории салоны и академии, конечно, могли выполнять очистительную функцию и раздавать награды за хорошее пластическое и литературное поведение под шапкой реализма. Но капитализм сам по себе имеет такую силу дереализации предметов обихода, ролей социальной жизни и институтов, что сегодня так называемые реалистические изображения могут воссоздавать реальность лишь в ностальгической или пародийной форме, давая повод скорее для страдания, чем удовлетворения. Классицизм, очевидно, попадает под запрет в мире, где реальность расшатана настолько, что дает материал уже не для опыта, но лишь для зондирования и экспериментирования.
Эта тема знакома читателям Вальтера Беньямина. Ее подлинный размах мы должны еще точно определить. Фотография не была вызовом живописи, брошенным ей извне, так же как промышленный кинематограф — аналогичным вызовом повествовательной литературе. Первая довершила некоторые аспекты программы устроения визуального, разработанной еще в эпоху Кватроченто, второй же позволил довести до совершенства то сцепление диахронии в органические целостности, которое было идеалом больших романов воспитания (Bildungsroman) начиная с XVIII в. Тот факт, что механика и промышленность заменили собой ручной труд и ремесло, сам по себе не был катастрофой, если только не воображать себе сущность искусства выражением какой-то гениальной индивидуальности, располагающей элитарной ремесленной компетенцией.
Вызов коренился главным образом в том, что фото- и кинематографические методы могут лучше, быстрее и с тысячекратно большим размахом, чем живописный и повествовательный реализм, выполнить ту задачу, которую академизм возложил на этот последний: уберечь сознание людей от сомнений. Промышленные фотография и кинематограф не могут не взять верх над живописью и романом, когда речь идет о стабилизации референта, подчинении его точке зрения, наделяющей его узнаваемым смыслом, повторении синтаксиса и лексики, позволяющих адресату быстро расшифровать образы и эпизоды и в результате без труда прийти к осознанию как своей собственной идентичности, так и одобрения или согласия со стороны других, поскольку структуры этих образов и эпизодов образуют захватывающий всех людей коммуникационный код. Так множатся эффекты реальности, или, если угодно, фантазмы реализма.
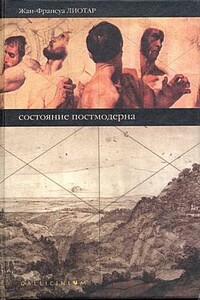
Книга известного философа Жана-Франсуа Лиотара (р. 1924 г.) стала за годы, прошедшие со времени ее первой публикации, классической. В ней освещаются вопросы знания, его состояния и модели легитимации в постсовременную эпоху, а также различные типы языковых игр и их прагматика, Автор исследует, каким образом в наше время может легитимироваться социальная связь, что происходит с идеей справедливого общества, может ли результативность и эффективность системы быть целью познания и развития общества.Для преподавателей философии, а также для студентов и аспирантов, специализирующихся в области общественных наук.

Жан-Франсуа Лиотар (1924–1998) — один из наиболее значительных представителей новейшей философии. В предлагаемой читателю работе европейский антисемитизм с его кульминацией — холокостом, отношение европейской культуры к этому «событию», пресловутое «непокаяние» Хайдеггера, степень вовлеченности великого мыслителя — и его мысли — в стихию нацизма, — весь этот комплекс тем подвергается у Лиотара радикальной разработке, парадоксальным образом основанной на анализе предельно классических и, казалось бы, не связанных с предметом построений: некоторых фрейдовских концепций и категории возвышенного в «Критике способности суждения» Канта.Книга вызвала серьезный резонанс как во Франции, так и за ее пределами.

Феноменология, благодаря работам своего основателя Э. Гуссерля, его учеников и последователей (М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, М. Мерло-Понти и др.), стала одним из наиболее значительных направлений философской мысли XX века. В книге современного французского мыслителя Жана-Франсуа Лиотара дан как подробный анализ основных проблем феноменологии (проблемы сознания, интерсубъективности, эйдетики и пр.), так и культурно-философский контекст феноменологической мысли.Книга адресована читателям, интересующимся историей идей, философии и культуры.http://fb2.traumlibrary.net.

Вы когда-нибудь задавались вопросом, что важнее: физика, химия и биология или история, филология и философия? Самое время поставить точку в вечном споре, тем более что представители двух этих лагерей уже давно требуют суда поединком. Из этой книги вы узнаете массу неожиданных подробностей о жизни выдающихся ученых, которые они предпочли бы скрыть. А также сможете огласить свой вердикт: кто внес наиценнейший вклад в развитие человечества — Григорий Перельман или Оскар Уайльд, Мартин Лютер или Альберт Эйнштейн, Мария Кюри или Томас Манн?

Рене Декарт — выдающийся математик, физик и физиолог. До сих пор мы используем созданную им математическую символику, а его система координат отражает интуитивное представление человека эпохи Нового времени о бесконечном пространстве. Но прежде всего Декарт — философ, предложивший метод радикального сомнения для решения вопроса о познании мира. В «Правилах для руководства ума» он пытается доказать, что результатом любого научного занятия является особое направление ума, и указывает способ достижения истинного знания.

В настоящем учебном пособии осуществлена реконструкция истории философии от Античности до наших дней. При этом автор попытался связать в единую цепочку многочисленные звенья историко-философского процесса и представить историческое развитие философии как сочетание прерывности и непрерывности, новаций и традиций. В работе показано, что такого рода преемственность имеет место не только в историческом наследовании философских идей и принципов, но и в проблемном поле философствования. Такой сквозной проблемой всего историко-философского процесса был и остается вопрос: что значит быть, точнее, как возможно мыслить то, что есть.

Системное мышление помогает бороться со сложностью в инженерных, менеджерских, предпринимательских и культурных проектах: оно даёт возможность думать по очереди обо всём важном, но при этом не терять взаимовлияний этих по отдельности продуманных моментов. Содержание данного учебника для ВУЗов базируется не столько на традиционной академической литературе по общей теории систем, сколько на современных международных стандартах и публичных документах системной инженерии и инженерии предприятий.

В книге представлен результат совместного труда группы ученых из Беларуси, Болгарии, Германии, Италии, России, США, Украины и Узбекистана, предпринявших попытку разработать исследовательскую оптику, позволяющую анализировать реакцию представителя академического сообщества на слом эволюционного движения истории – «экзистенциальный жест» гуманитария в рушащемся мире. Судьбы представителей российского академического сообщества первой трети XX столетия представляют для такого исследования особый интерес.Каждый из описанных «кейсов» – реализация выбора конкретного человека в ситуации, когда нет ни рецептов, ни гарантий, ни даже готового способа интерпретации происходящего.Книга адресована историкам гуманитарной мысли, студентам и аспирантам философских, исторических и филологических факультетов.

В своем исследовании автор доказывает, что моральная доктрина Спинозы, изложенная им в его главном сочинении «Этика», представляет собой пример соединения общефилософского взгляда на мир с детальным анализом феноменов нравственной жизни человека. Реализованный в практической философии Спинозы синтез этики и метафизики предполагает, что определяющим и превалирующим в моральном дискурсе является учение о первичных основаниях бытия. Именно метафизика выстраивает ценностную иерархию универсума и определяет его основные мировоззренческие приоритеты; она же конструирует и телеологию моральной жизни.