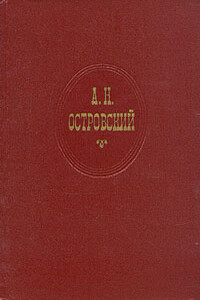— А сколько ей лет было, вашей Афонюшке-то? — спросил один из купцов, переглядывавшихся во время этого рассказа.
— Да тринадцатый годок пошел бы на зимнего Николу.
— Так-с… А из себя как она была?
— Да что же, девочка-девочкой… ребенок совсем.
— Нда-с… случается-с, ежели недосмотр. Надо было освидетельствовать…
Миропея Михайловна только теперь поняла, куда гнул купец, и вся вспыхнула: это подозрение оскорбило ее до глубины души, и она только прошептала:
— Что вы, что вы, господь с вами!.. Ребенок, ангельская душа…
— А Иванушку-то вы в суд предоставили? — спросил второй купец.
— Да ведь странненький… как представлять-то?.. Не от ума…
— Ну, уж это вы совсем напрасно-с, мадам… Нужно было прямо в окружной, там бы все разобрали.
— Нет уж, милушка, господь нас миловал от судов, а на суды и без нас много охотников-то… Меня ведь надо было судить-то, мой недосмотр. Уж легче бы на душе, кабы такой суд где был, а то теперь вот все и думаю да мучаюсь про себя. Два года выжил Иванушка-то у меня, все был ничего, тихий такой да покорный…
— Они, подлецы, все на одну колодку! — заявил первый купец. — Странные-то эти… Все ничего, прихрулится, как путный какой, а потом и облапошит. У нас этак же странница одна жила, Федосьей звали. Ну, для спасения души держали, а она, шельма, запон кожаный у повозки срезала да и убежала с ним… Это прежде странные-то будто точно что бывали, а по нонешним временам… не такие времена, мадам!..
Поезд мчался по холмистой равнине, которая идет от Екатеринбурга к Невьянску. Далее местность все повышается и за Кушвой вступает в настоящую горную область. По сторонам мелькали небольшие лесистые горки, торфяные болота, полосы воды и там и сям работавшие старатели.
В Невьянске наши купцы вышли.
— Хорошее было место! — печально заметила Миропея Михайловна, поглядывая в окно на расстилавшуюся картину первого по времени основания уральского завода. — Много наших старообрядцев отсюда вышло. Ну, а теперь то же, что и у нас в Займище: умаление и пестрота.
— А вы зачем в Москву, можно узнать?
— Дельце вышло одно, голубчик, — ответила старушка, оглядываясь по сторонам. — Вышло разрешение нам на моленные, значит, можем себе ставить их; ну, и везде ставят по своей силе: у вас в Екатеринбурге, в Тагиле… Еще есть боголюбивые-то народы. У нас в Займище тоже надумали моленную, ну, посудили, порядили и вырядили, чтобы наш бороздинский дом повернуть в моленную. В самой середке он стоит, осередь жила, да и крепко поставлен… Я даром его отдала, потому — куда мне дом-то. Так же стоит, а мне одну каморочку — и довольно. Еще вот Афонюшка-то жива была, так забота с ней, как и что, а теперь… Ну, а нам и не разрешили, начальство не разрешает. Отводят место за жилом. Послали в Питер особенного ходока. Хлопотал он там цельную зиму и пишет, что расходов много и что, главное, надобно сделать какому-то чиновнику ужин с французинкой… ей-богу!.. Пятьсот цалковых на ужин-то просит. Вот я и поехала сама, чтобы без французинки поужинал-то… Надо послужить миру и нашей сестре. Только еду я, голубчик, а сердце у меня не лежит ни к чему… даже весьма это грешно. Как умерла Афонюшка, точно во мне что оборвалось и точно я себе-то чужая стала… Последняя веточка от Бороздинского роду была, и та изгибла. Да и старой вере, видно, тоже конец приходит, хоть там и моленные разрешили: не стало прежнего… пестрота началась.
Странно было слушать эти речи под грохот мчавшегося поезда, да и сама Миропея Михайловна чувствовала это, с тоской поглядывая на проносившиеся мимо нас синие дали. Все было кругом новое, все торопилось жить, — одна она оставалась в стороне, с глазу на глаз со своим старым горем, от которого ни уйти, ни уехать, а главное — незачем было больше жить… Что может быть страшнее этого?
* * *
Из своей поездки в Москву старушка не вернулась: она умерла где-то дорогой.
1885[7]