Последний раунд - [2]
— Вот и займись тогда чем хочешь.
— Ничем не хочу, — заулыбался казачок, — хочу на вас глядеть.
Ивану Ильичу вспомнился сон: полка с книгами, пруд, летняя кухня. Он опять спросил:
— Чего же ты, всю жизнь на меня глядеть будешь?
— Не-е, всю жизнь не буду, — затряс головой казачок. — Барыня сказали, что вас скоро бессмертным сделают, — я тогда в ОМОН пойду.
Иван Ильич засердился:
— Вот и хватит болтать — болтунов в ОМОН не берут.
Прасковья Федоровна вернулась в два: стриженая, с закрашенной сединой. Отобедали, сели на веранде смотреть кино: Иван Ильич любил Тарковского, но сегодня «Иваново детство» казалось ему слишком уж тоскливым. Наконец он не выдержал, цыкнул на проектор — кино растаяло, веранда опустела. Прасковья Федоровна потерялась с секунду, но не спросила и даже виду не подала, что расстроилась, — отвернулась в сад и сидела так, пока не позвали полдничать.
Иван Ильич полдничать не пошел: смотрел в никуда и думал, что вот кому-то в ОМОН, а кому-то обрезать тутовник в апреле и сентябре. А кому-то хуже: помирать всю ночь от боли в боку, трижды просвечивать желудок, почти месяц подбирать обезболивающее, потом глотать какие-то трубки, ложиться под лазерный нож и отныне чувствовать жженый запах, идущий, кажется, изнутри, из-под кожи; потом составлять бумаги, просить людей, знакомцев и незнакомых, чтобы помогли с тем-то и вот с тем-то, и, наконец, ждать, когда вызовут, и, дождавшись, смотреться в крохотный кусочек собственного бессмертия, в маленький красный ярлычок — все это придется делать кому-то, а не ему, не Ивану Ильичу: Ивану Ильичу уже ничего не придется — от этой мысли он вдруг негромко завыл, и на веранду тотчас выскочил казачок.
— Ну-ка, пшел прочь, — неуверенно крикнул ему Иван Ильич. Казачок пропал, но позвал Прасковью Федоровну: она села рядом, стала гладить Ивану Ильичу затылок, рассказывая про вчерашнюю службу в Липках, про рецепт блинов по-польски, про нового цирюльничего на краю Москвы.
— Это где же? — спросил вдруг Иван Ильич.
— Через Оку переехать — тут и будет, — ответила Прасковья Федоровна. — На Серпуховском затоне.
Ночью снова сны, наутро мысли — обо всем подряд, вперемешку: о тутовнике, об электричках из детства, о Тарковском. Полвосьмого у ворот поставился извозчик; Иван Ильич все вошкался с левым чулком — придирчиво расправлял его на ноге, от щиколотки к колену, от щиколотки…
— Поспешил бы, — сказала Прасковья Федоровна, уже одетая, — на Симферопольском, поди, пробки.
Но Симферопольское мелькнуло быстро, и на Варшавском почти не стояли — только в Пятое кольцо с трудом вклинились, но по кольцу поехали с ветерком. «Экое блядство, — сказал себе Иван Ильич, — еще с час прожду, пока вызовут». Прасковья Федоровна все говорила что-то извозчику — неуместное, неумное: где повернуть, в каком часу будет дождь, когда поднимут прайс на парковку; Иван Ильич не смотрел на жену и мечтал вдобавок не слышать.
Институт стоял на Головинской, непроницаемый, без единого окна, зажатый между прудами и рекой, отражаясь в них всеми четырьмя шершаво-серыми гранями. В вестибюле, выстроенном в двадцатые, когда вдруг случилась жажда на все советское, пестрела в десять человеческих ростов мозаика: пожилой ученый морщится в инвалидном кресле, а за ним облыселый старик в очках и плечистом пиджаке — стоит и держит над головой ярлычок, еще плоский и сизого цвета (и называвшийся тогда смешно и точно — мозговым протезом). Ивана Ильича с женой посадили в приемной, где обошлось без мозаики, но по стенам, точно плющ, бежали строчки: «Технологии — продолжение наших тел». Или: «Сохрани своему сознанию жизнь». «Жизнь, — повторил про себя Иван Ильич, — какая тут жизнь. А если я хотел жизнь прожить художником, если я все ждал, чтобы взяться, скажем, за гармонь, а хоть бы даже ОМОН — где мне взять такую жизнь, омоновскую? Так и соскребут в ярлычок одно сознание. А на кой мне его? — никто не скажет».
Через полчаса вышла медсестра: благодушная, улыбчивая. Спросила:
— Иван Ильич?
Иван Ильич кивнул: во рту пересохло, сказать не получалось.
— Отлично, — продолжила медсестра, — положительно отлично. Портатив в наличии?
Иван Ильич растерялся, потом сообразил и достал из нагрудного кармана ярлычок:
— Вы про это?
— Положительно отлично, — повторила медсестра, взяла ярлычок, что-то надавила на одном ребре — и от шестигранника отделилась крышечка. — Теперь проследуйте с портативом в выделительный отсек.
Потом она повернулась к Прасковье Федоровне:
— А вы ожидайте — через два цикла заберете готовый резерв.
«Резерв, — думал Иван Ильич, отыскивая среди неоновых табличек в коридоре выделительный отсек, — вот ведь и название мне придумали: нерабочее, ненужное».
В выделительном отсеке была белая, фенолом пахнущая пустота. Медсестра вошла через минуту, вывела на стену светящийся экран, поправила что-то в конфигурации.
— Я теперь устранюсь, — сказала она Ивану Ильичу, — а вы контрибутируйте мочу в портатив. Трех минут достаточно?
— Для чего? — не понял Иван Ильич.
— Для контрибутива.
Иван Ильич долго смотрел в медсестру.
— Это поссать что ли? — наконец сказал он раздраженно. — Достаточно.

Тимур Валитов (р. 1991) – прозаик, дважды финалист премии «Лицей» за сборники «Вымыслы» и «Последний раунд», лауреат премии журнала «Знамя». Рассказы также входили в шортлисты литературной премии Дмитрия Горчева и Волошинского конкурса. Произведения переведены на немецкий и болгарский языки. «Угловая комната» – дебютный роман. Лето 2018 года. В России гремит чемпионат мира по футболу, но молодому герою не до спортивных состязаний – личная трагедия вырывает его из московской размеренной жизни и возвращает в родной город.

Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.

Ирен, археолог по профессии, даже представить себе не могла, что обычная командировка изменит ее жизнь. Ей удалось найти тайник, который в течение нескольких веков пролежал на самом видном месте. Дальше – больше. В ее руки попадает древняя рукопись, в которой зашифрованы места, где возможно спрятаны сокровища. Сумев разгадать некоторые из них, они вместе со своей институтской подругой Верой отправляются в путешествие на их поиски. А любовь? Любовь – это желание жить и находить все самое лучшее в самой жизни!

Французская романистка Карин Тюиль, выпустившая более десяти успешных книг, стала по-настоящему знаменитой с выходом в 2019 году романа «Дела человеческие», в центре которого громкий судебный процесс об изнасиловании и «серой зоне» согласия. На наших глазах расстается блестящая парижская пара – популярный телеведущий, любимец публики Жан Фарель и его жена Клер, известная журналистка, отстаивающая права женщин. Надлом происходит и в другой семье: лицейский преподаватель Адам Визман теряет голову от любви к Клер, отвечающей ему взаимностью.
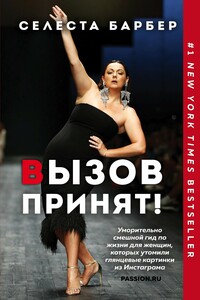
Селеста Барбер – актриса и комик из Австралии. Несколько лет назад она начала публиковать в своем инстаграм-аккаунте пародии на инста-див и фешен-съемки, где девушки с идеальными телами сидят в претенциозных позах, артистично изгибаются или непринужденно пьют утренний смузи в одном белье. Нужно сказать, что Селеста родила двоих детей и размер ее одежды совсем не S. За восемнадцать месяцев количество ее подписчиков выросло до 3 миллионов. Она стала живым воплощением той женской части инстаграма, что наблюдает за глянцевыми картинками со смесью скепсиса, зависти и восхищения, – то есть большинства женщин, у которых слишком много забот, чтобы с непринужденным видом жевать лист органического салата или медитировать на морском побережье с укладкой и макияжем.
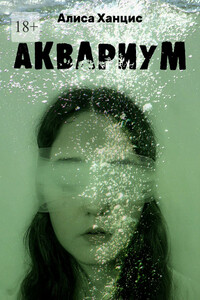
Апрель девяносто первого. После смерти родителей студент консерватории Тео становится опекуном своего младшего брата и сестры. Спустя десять лет все трое по-прежнему тесно привязаны друг к другу сложными и порой мучительными узами. Когда один из них испытывает творческий кризис, остальные пытаются ему помочь. Невинная детская игра, перенесенная в плоскость взрослых тем, грозит обернуться трагедией, но брат и сестра готовы на всё, чтобы вернуть близкому человеку вдохновение.
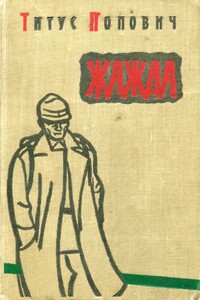
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.