Последний барьер - [49]
И так страница за страницей. Романсики «Жульман молодой», «Прощай, Урал!», «Прокуророва дочка», «Любовь блатных», «Дальний этап» и тому подобные — их названия говорят за себя сами. Рисунки: медведь шагает по земному шару навстречу айсбергам с надписью «Арктика», и рядом пояснение: «Иду туда, где нет закона»; лихой, обвешанный револьверами ковбой поучает: «Бери от жизни все, но ничего ей не давай!»; гангстер на денежном мешке рекомендует: «Хорошо, когда вокруг люди честные, а ты среди них мошенник». В отношении женщин — никаких розовых иллюзий: «Проживи жизнь так, чтобы, когда оглянешься, позади была толпа обманутых баб и вагон выпитых бутылок»; «Женщина — как чемодан без ручки: бросить жаль и с собой тащить тяжело». Ничего оригинального и нового Киршкалн в тетради не обнаружил. Все эти тексты и рисунки из года в год одни и те же.
— Поглядишь на такую тетрадку — и тошнит. Охота пойти руки помыть, — говорит Крум.
— Руки лишний раз помыть никогда не вредно, а тетради эти в некотором смысле поучительны. Ведь они — идеология врага, которого мы должны сокрушить.
— Но как можно не соображать, что черное есть черное? Неужели требуются особые доказательства для истин, которые сами собой разумеются?
— Вот один из наших камней преткновения, — оживляется Киршкалн. — Мы не понимаем, что истины можно воспринимать по-разному. Зумент, Бамбан, Цукер и кое-кто еще дураками считают нас, а то, что написано тут, — Киршкалн потрясает тетрадью, — для них — высшая мудрость жизни. В колонии их меньшинство, но меньшинство, пользующееся влиянием. А почему? Потому что они убеждены в своей правоте. Ведь здесь по большей части ребята беспринципные и бесхарактерные. Они сами ищут, к кому бы приткнуться. Зумент, с его моралью кулака и разбоя, тянет их к себе, нам же вместе с хорошими ребятами необходимо сорвать его замысел да и самого перетащить на нашу сторону. Ты думаешь, этого можно достичь, сухо констатируя твою и мою правоту?
— А сама жизнь? Она ничему уже не учит? Они же не слепые в не глухие.
— Но эта тетрадь существует. Стало быть, не учит. Их будни — не будни наших людей. Они жили по щелям.
— Просто даже верить не хочется. Быть может, ложно понятая романтика, ребяческое недомыслие — но убеждения?.. — пожимает плечами Крум. — Это же противоречит здравому смыслу.
— Да, есть и ложная романтика, есть и ребячество, но есть и убеждения… Ты предпочитаешь твердить, что «черное есть черное», «воровать плохо, грабить нельзя», а мальчишка слушает и думает про себя: «Воровать-то хорошо, только засыпаться нельзя, честно трудятся одни болваны, те, кто не умеет ничего другого». Твои прописи ничего не дают, наши воспитанники сыты ими по горло. Если хотим поднять их выше, прежде всего надо попробовать спуститься до них. Ты ведь не сможешь вытащить утопающего, стоя на мосту, правда?
— Хорошо, надо спуститься до их уровня, надо разъяснять, надо доказывать, — почем зря упирается Крум. — Но как это делать, если они, как ты говоришь, росли по щелям, ничего хорошего не видели? Ребята и здесь тоже изолированы от общества.
Киршкалн прихлопывает Зументовой тетрадью муху, потом задумывается, глядит в окно и говорит:
— Ты прав. — Он снова поворачивается к Круму: — Тогда стоило бы поговорить о том, какой я себе представляю колонию для несовершеннолетних. Как бы Нам ни было, она должна очень сильно отличаться от вашего нынешнего места службы. Я вообще не верю в то, что подростков можно успешно перевоспитать, лишая их свободы. Возможно, это звучит несколько наивно и отдает утопией, но людей для свободного труда и воплощения высоких идей немыслимо воспитывать в неволе. Сейчас мы поступаем так, потому что неспособны придумать ничего лучшего, и от этого на первый план выдвигается карательный момент. Но разве можно ставить на одну доску взрослого, образованного человека и нашего Мейкулиса или Цукера? Как теперь принято говорить — здесь требуется дифференциация. Все это, конечно, спорно в том виде, в каком я себе это мыслю. К тому же Мейкулис через три года тоже станет взрослым и «образованным». Как быть тогда? Киршкалн разошелся и обращается уже не только к Круму. — Прежде чем потребовать, надо дать. Из каких семей наши воспитанники — ни для кого не секрет. У большинства нет одного из родителей, а некоторые вообще круглые сироты. Чаще всего нет отца. Вот, пожалуйста! — Киршкалн выдвигает ящик и достает толстую тетрадку со списками своих нынешних и бывших воспитанников, листает страницу за страницей и читает: — «Камол — отец умер, мать официантка в ресторане; Бирзе — отец ушел, мать — кондуктор трамвая; Валинь — отец бросил семью, мать уборщица, образование четыре класса; Румбинь — отец в заключении, мать пенсионерка, инвалид; Иохансон отец ушел, мать буфетчица на вокзале; Блекте — родители в разводе, мальчик воспитывался у бабушки; Заринь — родители умерли, воспитывался у родственников, позднее — в детдоме; Унделис — отец ушел, мать — санитарка, дома бесчинствует неофициальный отчим — пьяница и скандалист; Трудынь отец умер, мать — швея, в доме уже второй отчим; Зеберг — отец с матерью лишены родительских прав, оба алкоголики, мальчик жил в школе-интернате, потом бродяжничал…» И так далее в том же духе. Вереница эта бесконечна.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
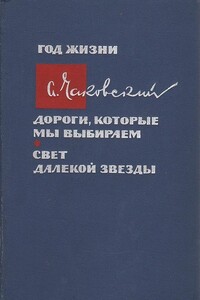
Пафос современности, воспроизведение творческого духа эпохи, острая постановка морально-этических проблем — таковы отличительные черты произведений Александра Чаковского — повести «Год жизни» и романа «Дороги, которые мы выбираем».Автор рассказывает о советских людях, мобилизующих все силы для выполнения исторических решений XX и XXI съездов КПСС.Главный герой произведений — молодой инженер-туннельщик Андрей Арефьев — располагает к себе читателя своей твердостью, принципиальностью, критическим, подчас придирчивым отношением к своим поступкам.

Рассказ о последних днях двух арестантов, приговорённых при царе к смертной казни — грабителя-убийцы и революционера-подпольщика.Журнал «Сибирские огни», №1, 1927 г.
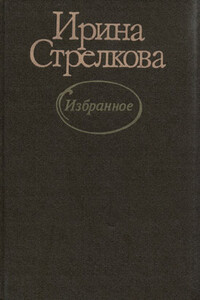
«— Священника привези, прошу! — громче и сердито сказал отец и закрыл глаза. — Поезжай, прошу. Моя последняя воля».

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».
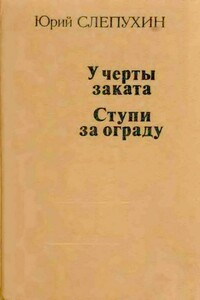
В однотомник ленинградского прозаика Юрия Слепухина вошли два романа. В первом из них писатель раскрывает трагическую судьбу прогрессивного художника, живущего в Аргентине. Вынужденный пойти на сделку с собственной совестью и заняться выполнением заказов на потребу боссов от искусства, он понимает, что ступил на гибельный путь, но понимает это слишком поздно.Во втором романе раскрывается широкая панорама жизни молодой американской интеллигенции середины пятидесятых годов.