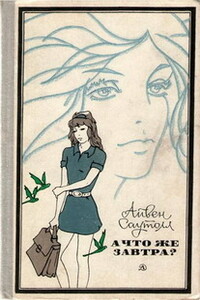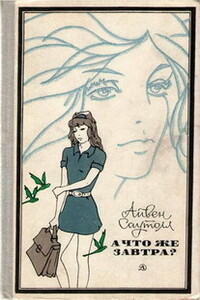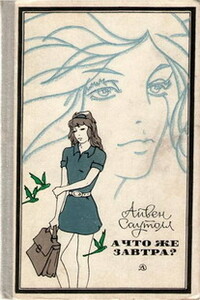Стелла почувствовала дождь спиной. Сначала он был горячий, как утренний душ, и она приняла его за огонь. Но он не сжег ее, он стал прохладнее, потом еще прохладнее.
Она вся промокла, и в нос ей бил запах мокрой земли и мокрого дыма, запах мокрой пыли, прибитой дождем. Она приподнялась на руках и на коленях и плакала, плакала…
Стиви разминулся с Лорной — прошел в нескольких шагах, не заметив ее, и все спускался под уклон, пока не почувствовал, что что-то переменилось, что его окружает кольцом не только пламя, но и дым, другой дым — чистый, белый, как облака, как густые облака, которые катятся по земле, что ветер не горячий, а холодный и дует ему в лицо, а не в спину, и что с неба льется не обжигающий пепел, а вода.
Стиви вздохнул — вздохнул всем телом, всеми порами кожи. Страх и боль, сдавившие ему грудь, как железные обручи, отпустили, растаяли. Их сменило облегчение, подобное мягкой постели или освежающей мази. Облегчение и что-то еще: невозможность поверить, что все кончилось, что оно вообще могло случиться и что он все еще держит своего мишку за обмякшую заднюю лапу. Он посмотрел на него чуть ли не со стыдом.
— Ух ты! — сказал он и, украдкой бросив мишку наземь, пошел прочь, надеясь, что никто не видел.
Лорна увидела, но сберегла его тайну. Дождь стекал с ее волос, попадал в глаза, капал с кончика носа. Платье облепило ее, точно она одетая переплыла широкую реку. Она стояла на своем поле, чувствуя себя женщиной, гордая, полная достоинства, готовая ко всему, чем встретит ее жизнь. Уже не потерянная, не испуганная. Благодарная за то, что не все, созданное ее отцом, погибло в огне. Осталось достаточно, чтобы жить дальше, с ним или без него. Заплакать, как Стелла, она бы не могла, даже если бы постаралась.


Грэм видел, как она стоит, отделенная от него дождем, и дымом, и тайными мыслями, от которых она застыла, как статуя. Он страшился всего, что могло ее отдалить, даже ее мыслей. Он почти и не знал ее, но, когда она была рядом, чувствовал себя способным на любой подвиг, на то, чтобы открыто сознаться в своем преступлении, даже на то, чтобы при первой возможности явиться в полицию. Ведь она сказала: «По-моему, Грэм, ты должен все рассказать. Чем раньше расскажешь, тем скорее отделаешься. Это настолько проще, чем убегать и скрываться. И ты же не нарочно это сделал, правда? Это был несчастный случай».
Благодаря ей он ощутил себя цельным. Она заполнила в нем пустоту, которой не могли заполнить ни Уоллес, ни Гарри, потому что к Уоллесу и Гарри он пристал со стороны. В глубине души он всегда знал, что они друг другу чужие.
Не это ли чувство имеют в виду взрослые, когда они говорят о любви? Пожалуй, что и так. Когда она опять повернулась к нему лицом, он, прихрамывая, заторопился к ней, уже снова чувствуя себя сильным.
Дед Таннер изумленно, даже в некотором смущении выглянул из-под одеяла. Красный огонь превращался в шипящий пар и в волны густого дыма. Последние языки пламени подскакивали, щелкали гневно, как кнут, а щелкнув, мгновенно, как по волшебству, исчезали.
Значит, ему еще не пора умирать.
Это было разочарование.
Он опять был один. Призраки бежали. Они подходили так близко, а теперь ушли. Теперь они ему не нужны. Он по-прежнему одинокий старик в своем старом доме. У него еще есть крыша над головой. Не придет сюда чужой человек строить скучный, голый дом с плоской крышей и бетонными стенами. Еще не время.
Дед Таннер молился не о себе. Кажется, он ясно сказал, что молится за Жюли, за младенца Робертсонов, за всех маленьких детей на земле. И бог послал дождь. Конечно, так часто бывает, хотя и не всегда. Большие пожары притягивают сильные ветры, встречные ветры и большие дожди. Но не всегда. Только время от времени. Может быть, в тех случаях, когда мужчины забывают о себе и молятся за маленьких детей, а не тогда, когда они с яростью и вызовом потрясают кулаками.
Дед Таннер отложил одеяло. Оно погибло. Пробито десятками мелких дырочек, а в нескольких местах и совсем прожжено. Жаль, хорошее было одеяло.
Не вставая, он столкнул камни с железных листов, и из глубины колодца глухо прозвучал тоненький голосок:
— Я здесь, люди добрые! Я в колодце, жива-здорова!