Порченая - [74]
Ну, присел он в недоумении на покрасневшую от света траву между могилами и стал ждать — не лопнет ли стекло от жара в мелкие брызги, уж больно сильный огонь внутри развели.
«Что же там все-таки делается? — рассуждал он потихоньку сам с собой. — У священников башка не так, как у нас, грешных, устроена, и очень бы мне хотелось узнать, что они куют в нашей церкви, когда все вокруг спят!»
Перемахнул он через изгородь и к двери подкрался.
Я уже говорил вам, сударь, что дверь у нас в церкви старинная, ее из аббатства принесли. «Синяки» изрешетили ее всю пулями, так что глазков для смотрения в ней достаточно. Пьер и стал глядеть в одну из дырок, как глядел обычно по воскресеньям, чтобы узнать, скоро ли кончится месса, и увидел такое, что волосы у него встали дыбом, будто у ежа иголки, когда охотится за ужом. Он увидел аббата де ла Круа-Жюгана, тот стоял спиной к двери, лицом к алтарю. В церкви ни души и тьма словно в густом лесу, только алтарь освещен. Красный свет, который Пьер заметил издали, шел от зажженных факелов. И, как год назад, аббат стоял с обнаженной головой и без капюшона. А на тонзуре у него виднелась кровь, да и на ризе тоже, но не свежая, в прошлом году, когда священники уносили его от алтаря, она текла, а сейчас запеклась.
«Не упомню, чтобы когда-нибудь в жизни мне было так страшно, — говорит, — заледенел от ужаса. И слышу, будто шепчет мне кто: “Будет с тебя, парень! Беги отсюда во все лопатки!” Но я словно прилип к треклятой двери, хотел понять, что же там такое делается. У алтаря он один стоял… Ни дьякона, ни певчих, ни алтарника… Стоял и служил мессу и, когда нужно было, брал с приступки серебряный колокольчик и сам звонил. И отвечал себе сам, когда молитва шла на два голоса. “Господи помилуй” он не пел, молился шепотом и очень быстро… А я все смотрел и смотрел, оторваться не мог. Вся жизнь собралась в дверной дырке. Вот он пропел “Господу помолимся” и, как положено, повернулся… Тут я изо всех сил вцепился пальцами в дырки, что окружали мой глазок, иначе повалился бы навзничь от ужаса. Жуть, по-другому не скажешь. Не лицо, а череп, какой из старой могилы выкатывается, когда тревожат лежащие в ней кости. Но череп, искореженный бороздами, что уродовали аббата при жизни. Живыми остались только глаза, и горели они будто угли. Я испугался, что сквозь дыру он заметит и мой глаз, опалит его, и я окривею. Но я уперся, решил досмотреть все до конца… И досмотрел… Аббат продолжал бормотать молитвы, отвечая, где нужно, сам себе и сам звоня в колокольчик где положено. И вдруг стал заикаться, путаться в словах, останавливаться… Похоже, позабыл слова молитвы. Так оно и было, молиться он больше не мог. И все-таки старался, возвращался назад, повторял все сначала, спотыкаясь на каждом слове, дошел до канона и осекся… Руки скелета сжали височные кости — в отчаянии он пытался припомнить то, что должно было его спасти, и не мог! Гнев и тоска разрывали ему грудь. Он хотел освятить Дары, но уронил на алтарь чашу. Как будто обжегся. Похоже, он сходил с ума. И честное слово, так оно и было! Тронувшийся покойник. А разве может покойник спятить? Жуткое зрелище! Мне все казалось, что из-под алтаря вот-вот выскочит черт и утащит его в преисподнюю. В последние разы, когда он оборачивался, из глаз у него текли слезы. Покойник плакал. Вот те крест! Плакал, будто живой. «Это Господь его наказывает, — подумал я, — и как же страшно наказывает!» Дурные мысли полезли мне в голову. Вы и сами знаете, сколько всякой всячины говорили про аббата и Жанну Ле Ардуэй. Ясное дело, что он был проклятым, да только страдал так, что его пожалел бы и сам дьявол. Клянусь святым Патерном Авраншским, месса была для страдальца хуже ада, он старался закончить ее, слова молитв вертелись и в голове, и на языке, но ему не давались. При свете факелов было видно, что на черепе и даже на груди у него выступил кровавый пот и струился вместе со слезами по бороздам в костях, таким глубоким, будто текли не пот и не слезы, а серная кислота или свинец, из какого отливают пули. И если я говорю, что он раз двадцать начинал петь злополучную мессу, то не лгу. Аббат изнемог, рот запенился пеной, словно у припадочного, который вот-вот упадет и забьется в судорогах, но он не падал, крепко держался на ногах и молился, все время молился. И все время сбивался. Иногда скелет заламывал над головой руки, а потом протягивал их к дарохранительнице, и были они похожи на клещи. Казалось, просил прощения у разгневанного Господа, а Тот не хотел его слушать.
Я смотрел и не мог оторваться. Позабыл обо всем — о жене, что ждала меня, о позднем часе, стоял, будто приклеенный к двери, пока не рассвело… Только на рассвете несчастный священник вернулся в ризницу, продолжая плакать. Он так и не смог освятить Дары… Двери ризницы сами раскрылись перед ним, медленно повернувшись на петлях, сделанных как будто из промасленной шерсти. И так же, как открылись и закрылись двери ризницы, сами собой погасли факелы. В церкви посветлело. И стало в ней тихо и спокойно, будто и не было ничего. Я ушел разбитый душой и телом… Даже жене ни словом не обмолвился. А рассказал про ночную мессу, когда и другие в приходе стали о ней толковать. Как-то утром ризничий Груар увидел, что святая вода в чашах при входе кипит, дымясь, словно смола. Остыла и успокоилась она не враз, но, похоже, во время службы проклятого пастыря она кипела не переставая».
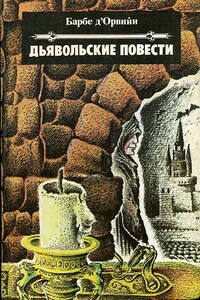
Творчество французского писателя Ж. Барбе д'Оревильи (1808–1889) мало известно русскому читателю. Произведения, вошедшие в этот сборник, написаны в 60—80-е годы XIX века и отражают разные грани дарования автора, многообразие его связей с традициями французской литературы.В книгу вошли исторический роман «Шевалье Детуш» — о событиях в Нормандии конца XVIII века (движении шуанов), цикл новелл «Дьявольские повести» (источником их послужили те моменты жизни, в которых особенно ярко проявились ее «дьявольские начала» — злое, уродливое, страшное), а также трагическая повесть «Безымянная история», предпоследнее произведение Барбе д'Оревильи.Везде заменил «д'Орвийи» (так в оригинальном издании) на «д'Оревильи».
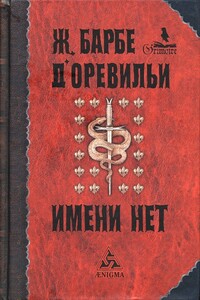
«Воинствующая Церковь не имела паладина более ревностного, чем этот тамплиер пера, чья дерзновенная критика есть постоянный крестовый поход… Кажется, французский язык еще никогда не восходил до столь надменной парадоксальности. Это слияние грубости с изысканностью, насилия с деликатностью, горечи с утонченностью напоминает те колдовские напитки, которые изготовлялись из цветов и змеиного яда, из крови тигрицы и дикого меда». Эти слова П. де Сен-Виктора поразительно точно характеризуют личность и творчество Жюля Барбе д’Оревильи (1808–1889), а настоящий том избранных произведений этого одного из самых необычных французских писателей XIX в., составленный из таких признанных шедевров, как роман «Порченая» (1854), сборника рассказов «Те, что от дьявола» (1873) и повести «История, которой даже имени нет» (1882), лучшее тому подтверждение.
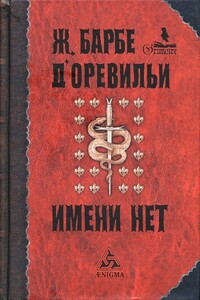
«Воинствующая Церковь не имела паладина более ревностного, чем этот тамплиер пера, чья дерзновенная критика есть постоянный крестовый поход… Кажется, французский язык еще никогда не восходил до столь надменной парадоксальности. Это слияние грубости с изысканностью, насилия с деликатностью, горечи с утонченностью напоминает те колдовские напитки, которые изготовлялись из цветов и змеиного яда, из крови тигрицы и дикого меда». Эти слова П. де Сен-Виктора поразительно точно характеризуют личность и творчество Жюля Барбе д’Оревильи (1808–1889), а настоящий том избранных произведений этого одного из самых необычных французских писателей XIX в., составленный из таких признанных шедевров, как роман «Порченая» (1854), сборника рассказов «Те, что от дьявола» (1873) и повести «История, которой даже имени нет» (1882), лучшее тому подтверждение.

«Анекдоты о императоре Павле Первом, самодержце Всероссийском» — книга Евдокима Тыртова, в которой собраны воспоминания современников русского императора о некоторых эпизодах его жизни. Автор указывает, что использовал сочинения иностранных и русских писателей, в которых был изображен Павел Первый, с тем, чтобы собрать воедино все исторические свидетельства об этом великом человеке. В начале книги Тыртов прославляет монархию как единственно верный способ государственного устройства. Далее идет краткий портрет русского самодержца.

В однотомник выдающегося венгерского прозаика Л. Надя (1883—1954) входят роман «Ученик», написанный во время войны и опубликованный в 1945 году, — произведение, пронизанное острой социальной критикой и в значительной мере автобиографическое, как и «Дневник из подвала», относящийся к периоду освобождения Венгрии от фашизма, а также лучшие новеллы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Жил на свете дурной мальчик, которого звали Джим. С ним все происходило не так, как обычно происходит с дурными мальчиками в книжках для воскресных школ. Джим этот был словно заговоренный, — только так и можно объяснить то, что ему все сходило с рук.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
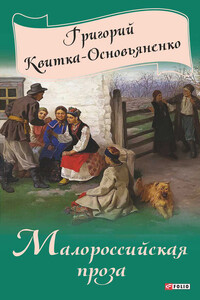
Вот уже полтора века мир зачитывается повестями, водевилями и историческими рассказами об Украине Григория Квитки-Основьяненко (1778–1843), зачинателя художественной прозы в украинской литературе. В последние десятилетия книги писателя на его родине стали библиографической редкостью. Издательство «Фолио», восполняя этот пробел, предлагает читателям малороссийские повести в переводах на русский язык, сделанных самим автором. Их расположение полностью отвечает замыслу писателя, повторяя структуру двух книжек, изданных им в 1834-м и 1837 годах.
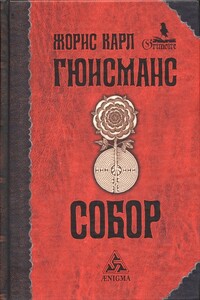
«Этот собор — компендиум неба и земли; он показывает нам сплоченные ряды небесных жителей: пророков, патриархов, ангелов и святых, освящая их прозрачными телами внутренность храма, воспевая славу Матери и Сыну…» — писал французский писатель Ж. К. Гюисманс (1848–1907) в третьей части своей знаменитой трилогии — романе «Собор» (1898). Книга относится к «католическому» периоду в творчестве автора и является до известной степени произведением автобиографическим — впрочем, как и две предыдущие ее части: роман «Без дна» (Энигма, 2006) и роман «На пути» (Энигма, 2009)
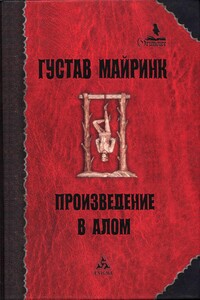
В состав предлагаемых читателю избранных произведений австрийского писателя Густава Майринка (1868-1932) вошли роман «Голем» (1915) и рассказы, большая часть которых, рассеянная по периодической печати, не входила ни в один авторский сборник и никогда раньше на русский язык не переводилась. Настоящее собрание, предпринятое совместными усилиями издательств «Независимая газета» и «Энигма», преследует следующую цель - дать читателю адекватный перевод «Голема», так как, несмотря на то что в России это уникальное произведение переводилось дважды (в 1922 г.
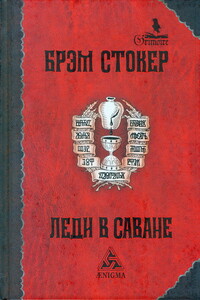
Вампир… Воскресший из древних легенд и сказаний, он стал поистине одним из знамений XIX в., и кем бы ни был легендарный Носферату, а свой след в истории он оставил: его зловещие стигматы — две маленькие, цвета запекшейся крови точки — нетрудно разглядеть на всех жизненно важных артериях современной цивилизации…Издательство «Энигма» продолжает издание творческого наследия ирландского писателя Брэма Стокера и предлагает вниманию читателей никогда раньше не переводившийся на русский язык роман «Леди в саване» (1909), который весьма парадоксальным, «обманывающим горизонт читательского ожидания» образом развивает тему вампиризма, столь блистательно начатую автором в романе «Дракула» (1897).Пространный научный аппарат книги, наряду со статьями отечественных филологов, исследующих не только фольклорные влияния и литературные источники, вдохновившие Б.

«В начале был ужас» — так, наверное, начиналось бы Священное Писание по Ховарду Филлипсу Лавкрафту (1890–1937). «Страх — самое древнее и сильное из человеческих чувств, а самый древний и самый сильный страх — страх неведомого», — констатировал в эссе «Сверхъестественный ужас в литературе» один из самых странных писателей XX в., всеми своими произведениями подтверждая эту тезу.В состав сборника вошли признанные шедевры зловещих фантасмагорий Лавкрафта, в которых столь отчетливо и систематично прослеживаются некоторые доктринальные положения Золотой Зари, что у многих авторитетных комментаторов невольно возникала мысль о некой магической трансконтинентальной инспирации американского писателя тайным орденским знанием.