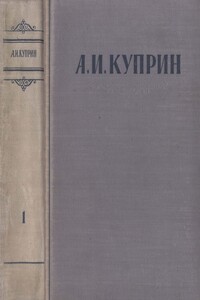Порченая - [58]
— Ну и шуму от тебя, детка, — упрекнула было ее Клотт, но, увидев лицо девочки, вмиг поняла, что тревожилась ночью не напрасно. — Не иначе в Белую Пустынь пришла беда.
— Ага, — подтвердила малышка прерывающимся от волнения и бега голосом. — Хозяйка Ле Ардуэй утонула, мы нашли ее сейчас в мыльне.
Не старушечий жалкий плач — рык разбуженной львицы вырвался из надорванной груди Клотт и замер на губах. Сгорбленное тело выпрямилось, Клотт рухнула на подушки, запрокинув голову, будто невидимый топор одним ударом отсек ее.
— Иисус! Мария! — воскликнула перепуганная девчонка: еще бы, спасаясь бегством от одной смерти, она, похоже, повстречалась с другой.
Маленькая Ингу на цыпочках подобралась к кровати, изо дня в день она помогала сползти с нее увечной, и увидела: Клотт лежит белее мела, с остановившимися глазами, а губы у нее, всегда подобранные в высокомерную усмешку, жалко дрожат — так дрожат наши губы, когда нам хочется выплакать в голос все невыплаканные рыдания, что скопились в глубине сердца.
— Слышите? Вы слышите, тетушка Клотт? — спросила внезапно девочка. — Похоронный звон…
В самом деле, ветер донес из Белой Пустыни звон колокола. Мерными неспешными ударами извещал он округу о том, что Жанны Ле Ардуэй больше нет. Один удар не торопился вслед за другим, звук медлил, расплывался, насыщая воздух вестью о смерти, а следующий гулкой каплей вливал в сердце саму смерть.
Скорбный, медлительно важный звон вторгался в тишину над мирными, безмятежными полями и растворялся в ней, как растворяется последнее дыхание жизни в вечности.
Серо-голубое рассветное небо расцвело сперва розами, потом подернулось легкой дневной позолотой, храня в глубине все тот же бесстрастный нерушимый покой, что и ночью. Редкие удары колокола вплывали в дверь, оставленную открытой малышкой Ингу, и умирали возле жалкой постели Клотт, разбив ее горделивое сердце, оно устояло против всех испытаний, но теперь исходило слезами, готовясь уразуметь то, чего никогда прежде не понимало: неистовую жажду молитвы.
Вслушиваясь в мерные удары колокола, который твердил, что Жанне больше никогда не проснуться, Клотт приподнялась.
— Я не достойна молиться за нее, — проговорила она словно бы сама себе, — но, оказывается, могу о ней плакать.
Она провела ладонью по глазам и посмотрела на мокрую руку с горестной гордостью, словно слезы стали ее нежданным завоеванием.
— Кто поверил бы, что Клотт когда-нибудь заплачет?.. Но для молитвы я не гожусь, слишком много на мне грехов. Господь только посмеется, если я вдруг стану молиться. Уж Он-то знает, кем я была и кем стала, и не захочет слушать мой замаранный голос, который никогда не просил ничего для Клотильды Проклятой, но попросил бы, если б осмелился, милости для Жанны Мадлены де Горижар!
И вдруг, озаренная счастливой мыслью, Клотт взяла руки малышки Ингу в свои и проговорила:
— Деточка, ты стоишь больше меня! Ты еще дитя, у тебя невинное сердце. Когда мне было столько лет, сколько тебе, мне говорили, что Господь Бог, придя на землю, любил детей и исполнял их просьбы. Встань на колени и помолись за нее.
И Клотт поставила девочку на колени возле своей постели с той царственной властностью, с какой не рассталась и в самые жалкие свои дни.
— Помолись о ней! — приказала она голосом, прерывающимся от слез. — А я буду плакать, пока ты молишься. Только молись вслух, чтобы я тебя слышала, — продолжала калека с отчаянием, — если я не могу молиться с тобой, то хотя бы буду слышать молитву. И скажи Ему, — прибавила она порывисто, — скажи Богу невинных детей, Богу праведных, терпеливых и кротких, в общем, таких, какой я никогда уже не буду…
— И Богу отверженных, — произнесла девочка с наивной высокопарностью, слово в слово повторив слова священника в церкви.
— Значит, и моему? — вымолвила Клотт, потрясенная откровением, будто ударом молнии, которую милосердный Господь посылает иной раз и из слабых уст ребенка. — Погоди! Погоди! Сейчас и я помолюсь вместе с тобой.
Опершись на плечо вставшей на колени девочки, Клотт сползла с постели на пол. Калека, чья нетронутая душа в скорбный миг очнулась, вцепилась в кровать, словно бы привстала на колени и стала молиться вместе с ребенком.
Тем временем старшая Ингу и Симона Маэ вернулись из Белой Пустыни к озерку с целой толпой любопытных. И Барб Коссерон, и Нонон Кокуан, искренне заливавшаяся слезами, пришли посмотреть на мертвую Жанну. Все они подошли к утопленнице, лежавшей среди осоки, но пастуха не увидели. Напугавший женщин колдун исчез. Однако прежде, чем исчезнуть, святотатец совершил над мертвым телом то, что приравнивается к поруганию, если не считается общепринятым долгом благочестия: он отрезал длинные каштановые волосы Жанны — волосы, которые, по словам дядюшки Тэнбуи, «украшали самым сиятельным в мире узлом ее затылок». Пастух откромсал их ножом, тем самым, который опускал в воду, и голова несчастной стала похожа, по словам того же старины Тэнбуи, на «сжатое тупым серпом жнивье, в неровных лесенках, а кое-где и с вырванными пучками». Унес ли пастух чудесные волосы как почетный трофей, знак свершившейся мести, желая показать их своему кочевому племени? Так поступают индейцы и многие другие дикари, свидетельствуя сходством обычаев глубинное единство человеческих рас. Или жадный пастух обрадовался возможности продать роскошную пелену изготовителю париков, что ходят из деревни в деревню, срезая за несколько монеток волосы бедным крестьянкам? Вряд ли. Скорее всего — а именно так и предполагал здравомыслящий Тэнбуи, — волосы женщины, погубленной колдовством, должны были послужить новым чарам или стать для пастуха очередным сомнительным оберегом.
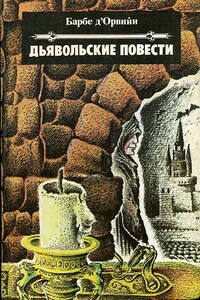
Творчество французского писателя Ж. Барбе д'Оревильи (1808–1889) мало известно русскому читателю. Произведения, вошедшие в этот сборник, написаны в 60—80-е годы XIX века и отражают разные грани дарования автора, многообразие его связей с традициями французской литературы.В книгу вошли исторический роман «Шевалье Детуш» — о событиях в Нормандии конца XVIII века (движении шуанов), цикл новелл «Дьявольские повести» (источником их послужили те моменты жизни, в которых особенно ярко проявились ее «дьявольские начала» — злое, уродливое, страшное), а также трагическая повесть «Безымянная история», предпоследнее произведение Барбе д'Оревильи.Везде заменил «д'Орвийи» (так в оригинальном издании) на «д'Оревильи».
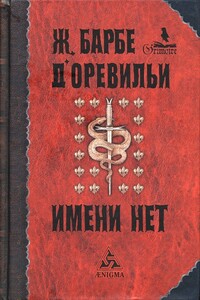
«Воинствующая Церковь не имела паладина более ревностного, чем этот тамплиер пера, чья дерзновенная критика есть постоянный крестовый поход… Кажется, французский язык еще никогда не восходил до столь надменной парадоксальности. Это слияние грубости с изысканностью, насилия с деликатностью, горечи с утонченностью напоминает те колдовские напитки, которые изготовлялись из цветов и змеиного яда, из крови тигрицы и дикого меда». Эти слова П. де Сен-Виктора поразительно точно характеризуют личность и творчество Жюля Барбе д’Оревильи (1808–1889), а настоящий том избранных произведений этого одного из самых необычных французских писателей XIX в., составленный из таких признанных шедевров, как роман «Порченая» (1854), сборника рассказов «Те, что от дьявола» (1873) и повести «История, которой даже имени нет» (1882), лучшее тому подтверждение.
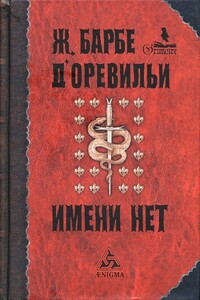
«Воинствующая Церковь не имела паладина более ревностного, чем этот тамплиер пера, чья дерзновенная критика есть постоянный крестовый поход… Кажется, французский язык еще никогда не восходил до столь надменной парадоксальности. Это слияние грубости с изысканностью, насилия с деликатностью, горечи с утонченностью напоминает те колдовские напитки, которые изготовлялись из цветов и змеиного яда, из крови тигрицы и дикого меда». Эти слова П. де Сен-Виктора поразительно точно характеризуют личность и творчество Жюля Барбе д’Оревильи (1808–1889), а настоящий том избранных произведений этого одного из самых необычных французских писателей XIX в., составленный из таких признанных шедевров, как роман «Порченая» (1854), сборника рассказов «Те, что от дьявола» (1873) и повести «История, которой даже имени нет» (1882), лучшее тому подтверждение.

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевёл коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.
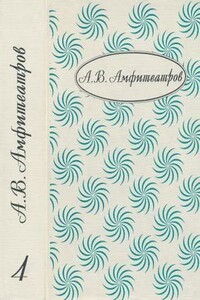
В четвертый том вошел роман «Сумерки божков» (1908), документальной основой которого послужили реальные события в артистическом мире Москвы и Петербурга. В персонажах романа узнавали Ф. И. Шаляпина и М. Горького (Берлога), С И. Морозова (Хлебенный) и др.
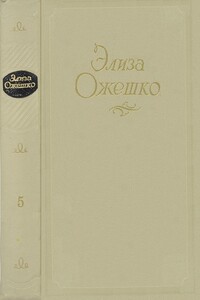
В 5 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли рассказы 1860-х — 1880-х годов:«В голодный год»,«Юлианка»,«Четырнадцатая часть»,«Нерадостная идиллия»,«Сильфида»,«Панна Антонина»,«Добрая пани»,«Романо′ва»,«А… В… С…»,«Тадеуш»,«Зимний вечер»,«Эхо»,«Дай цветочек»,«Одна сотая».
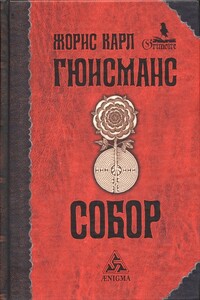
«Этот собор — компендиум неба и земли; он показывает нам сплоченные ряды небесных жителей: пророков, патриархов, ангелов и святых, освящая их прозрачными телами внутренность храма, воспевая славу Матери и Сыну…» — писал французский писатель Ж. К. Гюисманс (1848–1907) в третьей части своей знаменитой трилогии — романе «Собор» (1898). Книга относится к «католическому» периоду в творчестве автора и является до известной степени произведением автобиографическим — впрочем, как и две предыдущие ее части: роман «Без дна» (Энигма, 2006) и роман «На пути» (Энигма, 2009)
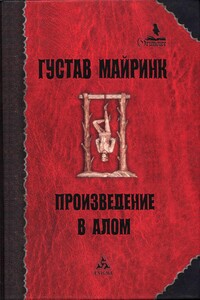
В состав предлагаемых читателю избранных произведений австрийского писателя Густава Майринка (1868-1932) вошли роман «Голем» (1915) и рассказы, большая часть которых, рассеянная по периодической печати, не входила ни в один авторский сборник и никогда раньше на русский язык не переводилась. Настоящее собрание, предпринятое совместными усилиями издательств «Независимая газета» и «Энигма», преследует следующую цель - дать читателю адекватный перевод «Голема», так как, несмотря на то что в России это уникальное произведение переводилось дважды (в 1922 г.
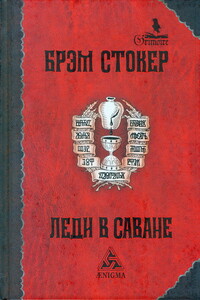
Вампир… Воскресший из древних легенд и сказаний, он стал поистине одним из знамений XIX в., и кем бы ни был легендарный Носферату, а свой след в истории он оставил: его зловещие стигматы — две маленькие, цвета запекшейся крови точки — нетрудно разглядеть на всех жизненно важных артериях современной цивилизации…Издательство «Энигма» продолжает издание творческого наследия ирландского писателя Брэма Стокера и предлагает вниманию читателей никогда раньше не переводившийся на русский язык роман «Леди в саване» (1909), который весьма парадоксальным, «обманывающим горизонт читательского ожидания» образом развивает тему вампиризма, столь блистательно начатую автором в романе «Дракула» (1897).Пространный научный аппарат книги, наряду со статьями отечественных филологов, исследующих не только фольклорные влияния и литературные источники, вдохновившие Б.

«В начале был ужас» — так, наверное, начиналось бы Священное Писание по Ховарду Филлипсу Лавкрафту (1890–1937). «Страх — самое древнее и сильное из человеческих чувств, а самый древний и самый сильный страх — страх неведомого», — констатировал в эссе «Сверхъестественный ужас в литературе» один из самых странных писателей XX в., всеми своими произведениями подтверждая эту тезу.В состав сборника вошли признанные шедевры зловещих фантасмагорий Лавкрафта, в которых столь отчетливо и систематично прослеживаются некоторые доктринальные положения Золотой Зари, что у многих авторитетных комментаторов невольно возникала мысль о некой магической трансконтинентальной инспирации американского писателя тайным орденским знанием.