Попытка ревности - [2]
13 марта 1921 года. «Красная» Москва. Через год Цветаева покинет ее. Пора витийственного «вандейства», песнословий «Дону», Добровольческой армии, и —
О вопиющих противоречиях Цветаевой, о немыслимых крайностях написано и сказано много. Энергия и сила, дарованные ей в избытке, несли в себе и неизбежную разрушительность. Словесная буря и ураган ритма порой приводили поэта к своеобразному «хлыстовству» и «шаманству». Кажется, что ее «переполненности» было тесно в литературе и жизни. По-другому и быть с ней не могло. Но на всех путях и перепутьях, в буране самосожжения Цветаеву хранил «спасительный яд творческих противоречий», эта родовая купель художника, по Александру Блоку.
Всякий значительный поэт у одних вызывает восхищение и признательность, у других – отторжение и неприятие. Не в счет капризно-раздраженные сентенции «нарциссов чернильницы». В связи с этим очень важны суждения ее многолетних, в эмигрантскую пору, оппонентов-соперников, недругов-петербуржцев. Язвительной пристальностью и «стильной» солью оценок они донимали Цветаеву. Один из них – поэт и критик Георгий Адамович, другой – гениальный лирик нашего столетия Георгий Ива́нов.
Адамович и Цветаева – это долгая литературная война, с бездной взаимных претензий и выпадов; война не мелочная, вызванная глубинной чуждостью замечательных людей.
«Первый критик эмиграции», так заслуженно именовали Адамовича, был последователен и беспощаден, всегда и всюду, ко всему, что считал у Цветаевой слабым, недолжным, кокетливо-истерическим. Из его сокрушительных «мнений» можно составить небольшую антологию. Цветаева, кстати, отвечала тем же. Но вот в рецензии на сборник «После России» в июне 1928 года Адамович, изложив обычные для него и читателей соображения об «архивчерашней поэзии Цветаевой», где «стих спотыкается на каждом шагу», а «музыка исчезла», неожиданно произносит: «…Марина Цветаева истинный и даже редкий поэт… есть в каждом ее стихотворении единое цельное ощущение мира, т. е. врожденное сознание, что всё в мире – политика, любовь, религия, поэзия, история, решительно всё – составляет один клубок, на отдельные источники не разложимый. Касаясь одной какой-нибудь темы, Цветаева всегда касается всей жизни». Здесь Адамович ясно и просто назвал самое существенное у Цветаевой, «строительное» начало ее поэзии и личности – «всегда касается всей жизни».
Даровитый, умный, духовно-щедрый литературный враг оказался проницательнее многих «близких». Не случайно, что последняя запись в рабочей тетради Цветаевой, в июне 1939, накануне отъезда в Россию, – стихотворение Адамовича «Был дом, как пещера. О, дай же мне вспомнить…», с припиской М.И.: «Чужие стихи, но к-рые местами могли быть моими». Наверное, такими вот «местами»:
Адамович прожил долгую жизнь. Он умер во Франции восьмидесятилетним патриархом. В 1972 году. Незадолго до смерти он напечатал одно из последних своих стихотворений. Называется оно «Памяти М. Ц.». Таинственная вещь:
Не лучшие стихи Адамовича, простенькие стихи. Но все искупает ровный и мягкий свет прощания и прощения.
Тяжкими были последние годы некогда баловня судьбы Георгия Иванова. А стихи писал он тогда «небесные». Несколько строк из письма Роману Гулю, из Франции в Америку (пятидесятые годы): «Насчет Цветаевой… Я не только литературно – заранее прощаю все ее выверты – люблю ее всю, но еще и «общественно» она очень мила. Терпеть не могу ничего твердокаменного и принципиального по отношению к России. Ну, и «ошибалась». Ну, и болталась то к красным, то к белым. И получала плевки от тех, и от других. «А судьи кто?» И камни, брошенные в нее, по-моему, возвращаются автоматически, как бумеранг, во лбы тупиц – и сволочей, – которые ее осуждали. И, если когда-нибудь возможен для русских людей «гражданский мир», взаимное «пожатие руки» – нравится это кому или не нравится – пойдет это, мне кажется, приблизительно по цветаевской линии». Странное, поразительное и проницательное признание. Его стоило привести хотя бы потому, что во многих писаниях о Цветаевой, в угоду безбрежной апологии поэта замалчивается или искажается неизбежная сложность (рядом с достоинствами провалы, срывы и тупики; с прозрениями – слепота; рядом с мощью и силой – слабость) его искусства и жизни. Как большой художник, как «душа, не знающая меры», она всё это несла в себе. Такими, всяк на свой лад, были ее «братья по песенной беде» – Маяковский, Есенин, Пастернак.

`Вся моя проза – автобиографическая`, – писала Цветаева. И еще: `Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком`. Написанное М.Цветаевой в прозе отмечено печатью лирического переживания большого поэта.
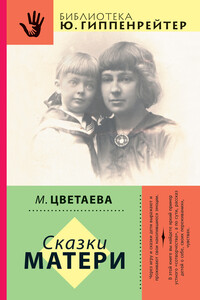
Знаменитый детский психолог Ю. Б. Гиппенрейтер на своих семинарах часто рекомендует книги по психологии воспитания. Общее у этих книг то, что их авторы – яркие и талантливые люди, наши современники и признанные классики ХХ века. Серия «Библиотека Ю. Гиппенрейтер» – и есть те книги из бесценного списка Юлии Борисовны, важные и актуальные для каждого родителя.Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) – русский поэт, прозаик, переводчик, одна из самых самобытных поэтов Серебряного века.С необыкновенной художественной силой Марина Цветаева описывает свои детские годы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть посвящена памяти актрисы и чтицы Софьи Евгеньевны Голлидэй (1894—1934), с которой Цветаева была дружна с конца 1918 по весну 1919 года. Тогда же она посвятила ей цикл стихотворений, написала для неё роли в пьесах «Фортуна», «Приключение», «каменный Ангел», «Феникс». .
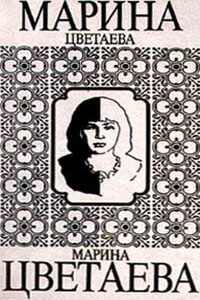
Марина Ивановна Цветаева (1892 – 1941) – великая русская поэтесса, творчеству которой присущи интонационно-ритмическая экспрессивность, пародоксальная метафоричность.
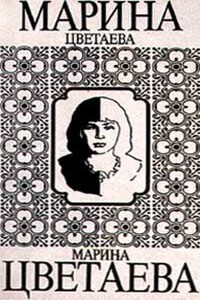
Марина Ивановна Цветаева (1892 – 1941) – великая русская поэтесса, творчеству которой присущи интонационно-ритмическая экспрессивность, пародоксальная метафоричность.
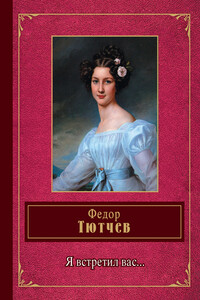
О Тютчеве написано множество ученых и умных книг, однако вернее всех угадал тайну этой гениальной личности младший современник поэта Иван Тургенев: «О Тютчеве не спорят; тот, кто его не чувствует, тем самым доказывает, что он не чувствует поэзии». Сборник избранных стихотворений Федора Тютчева – подарок истинным ценителям русской поэзии.
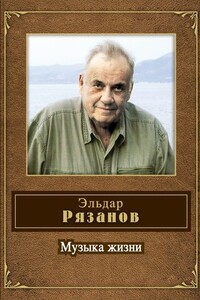
Перед вами книга стихотворений Эльдара Рязанова. В этих простых и трогательных строчках угадывается высочайшая житейская мудрость и очень чистая душа автора.В книге использованы фотографии из архива автора.
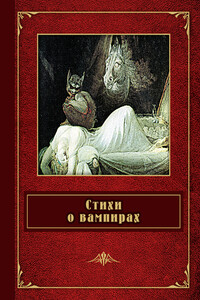
Несравненный Дракула привил читающей публике вкус к вампиризму. Многие уже не способны обходиться без регулярных вливаний свежей крови, добывая ее на страницах новелл и романов. Но мало кто знает, что вампирам посвящали также стихи и поэмы Д.Г. Байрон, И. Гёте, М. Кузмин. С образцами такого рода поэзии можно познакомиться в этом сборнике. Найдут здесь жаждущие читатели и стихотворения, посвященные разнообразной нечисти, например, русалкам и домовым. А завершает сборник всеобщий данс макабр, в котором участвуют покойники, нерожденные младенцы, умалишенные и многие-многие другие.

«Вся моя проза – автобиографическая», – писала Цветаева. И еще: «Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком». Написанное М.Цветаевой в прозе – от собственной хроники роковых дней России до прозрачного эссе «Мой Пушкин» – отмечено печатью лирического переживания большого поэта.