Понять - простить - [6]
— Боже упаси! Династия Романовых! Как ни лили на нее грязь целыми ушатами наши политические и общественные деятели, они не могли светлого сделать черным.
Под скипетром Романовых на маленькой Московии, где так же, как теперь, ели человеческое мясо, умирали от голода, где насильничали атаманы Болотников и Баловень, где смута была везде, где сама церковь православная раздиралась лжепопами, Россия обратилась в великую Российскую Империю. Романовы снесли смутное время, Наполеоновы дванадесять языков и свои тяжелые, страшные бунты… Они не вызовут новых распрей, зависти и борьбы за власть. Скажите, Кусков, тем, кто ждет и изнемогает, кто плывет по пучине и чьи руки, держащиеся за обломок корабля, закоченели и готовы выпустить его, чтобы потерпели. Жертва нужна… Жертва будет… Мы накануне спасения России. Совсем иное будет это спасение, чем думали Деникин, Юденич и Колчак… Не правительства пойдут покорять под нози свой русский народ, яко супостата, а русский народ примет сам сильную законную власть, идущую во всей славе своей, и… точка. Молчание, молчание, молчание… Господа, кому сыра, кому сладкого? Кусков, вам чаю? Я помню, вы и в полку кофе не пили. Ара, разрешите курить?
V
Когда встали из-за стола, Муратов подошел к Кускову. Он был слегка пьян. Безбровое лицо покраснело, светло-серые глаза горели недобрым огнем. Он взял Кускова за пуговицу пиджака.
— Святослав Федорович, мы с вами, кажется, встречались, — сказал он.
— Простите… Не помню, где.
— У графини Ары. Тогда она не была замужем, и была просто Варварой Николаевной Лежневой, дочерью Лежнева, женатого на княжне Мери Рокотовой. Она развелась потом и вышла замуж за камер-юнкера Сережу
Брянского… В организации Успенского. Не помните? Я был у вас для связи с «Асторией», где заседал наш штаб.
— Простите, Сергей Сергеевич, все было тогда так
смутно. У меня имена и лица перепутались.
— А графиню Ару вы помните?.. Вы, кажется, тогда пользовались ее взаимностью?
— Мне думается, Сергей Сергеевич, — холодно сказал Кусков, — что это вас не касается.
— Не совсем так, как вам думается. Я хотел только сказать, чтобы вы не вздумали чего-нибудь…
— Серега, — окликнула Ара. Она полулежала с папироской в зубах на диване. — Оставьте в покое Кускова. Вы любите после обеда привязываться.
— Нет, послушайте, графиня, и вы, князь, и ты, Павло… Я только кое-что хотел обнаружить.
— Опять по контрразведочной части? — сказал Синегуб.
— Ну? — сказал князь. — Что вы еще нащупали, коварный, подозрительный Серега, чующий большевика там, где им и не пахнет?
— Нет, господа, я только хотел сказать, что Святослав Федорович Кусков — сын генерала, бывшего генерала, Федора Михайловича Кускова. Так это или не так, Святослав Федорович?
— Совершенно верно, — бледнея, сказал Кусков.
— Ну, что из этого? — сказал Алик.
— А Федор Михайлович Кусков, по имеющимся у меня сведениям, находится на службе у большевиков, в Красной армии командовал дивизией. Вам это, Святослав Федорович, известно?
— Да, — опуская голову, сказал Кусков.
— А известно, где он теперь?
— Нет. С 1919 года я ничего не знаю о моем несчастном отце.
— Допустим, что даже и так.
— Что вы хотите этим сказать? — порывисто вскидывая голову и в упор, глядя на Муратова, спросил Кусков.
— То, что когда мы придем в Москву, нам придется повесить вашего отца.
— Ах! — воскликнула Ара и вскочила с дивана.
За ней поднялся князь Алик. Наступило тяжелое продолжительное молчание. Мертвая тишина стояла в кабинете. Наконец Кусков медленно заговорил.
— Судить моего отца не вам… Я думаю, никто из вас… Может быть, только князь… Никто из вас не сможет понять, что пережил и перечувствовал мой отец и как велики и ужасны его страдания. Надо знать моего отца и мою мать, чтобы все это понять… Надо жить их жизнью, а не судить из кабинета парижского ресторана.
И в полной тишине, никому не подав руки, Кусков вышел, мерно шагая по мягкому пушистому ковру.
VI
Шел страшный 1918 год. Федор Михайлович Кусков проснулся в пять часов утра. Он просыпался всегда в это время. В маленькой комнате, где у стен стояли две простые постели, было тихо. Его жена, Наташа, крепко спала, и не было слышно ее дыхания. В глубине намечалось окно с опущенными шторами. В эти глухие часы смолкал далекий гул потревоженной, взъерошенной Москвы. Тишина могилы стояла за окном. Когда с крыши упадал пласт снега и мягко падал на двор, долго звучало в ушах неясным шумом — и мысли, одна страннее другой, прыгали в голове.
В эти часы в Федоре Михайловиче шла большая внутренняя работа. Как бы двое спорили в нем. Один задавал вопросы, а другой, разумный, но и жестокий, отвечал на них. И когда начинали они спорить, уже нельзя было заснуть. Ничто не помогало. Ни троекратное чтение "Отче наш", ни бесконечный счет. Спорщики не умолкали. Вопросы оставались без ответа.
Как же это случилось, что он, командир 1-й бригады 039-й пехотной дивизии, вдруг очутился в каком-то полуштатском платье своего beau-frer'a (Зятя (фр)) — Лисенко, у своей сестры, Липочки, на квартире в Москве, на Арбате, в каком-то Косом переулке, на шестом этаже громадного дома, населенного чиновной беднотой, и вот уже вторую неделю живет у них, скрываясь, нелегально, не зная, что делать.
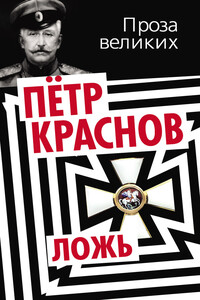
Автобиографический роман генерала Русской Императорской армии, атамана Всевеликого войска Донского Петра Николаевича Краснова «Ложь» (1936 г.), в котором он предрек свою судьбу и трагическую гибель!В хаосе революции белый генерал стал игрушкой в руках масонов, обманом был схвачен агентами НКВД и вывезен в Советскую страну для свершения жестокого показательного «правосудия»…Сразу после выхода в Париже роман «Ложь» был объявлен в СССР пропагандистским произведением и больше не издавался. Впервые выходит в России!

Краснов Петр Николаевич (1869–1947), профессиональный военный, прозаик, историк. За границей Краснов опубликовал много рассказов, мемуаров и историко-публицистических произведений.

Роман «С Ермаком на Сибирь» посвящен предыстории знаменитого похода, его причинам, а также самому героическому — без преувеличения! — деянию эпохи: открытию для России великого и богатейшего края.
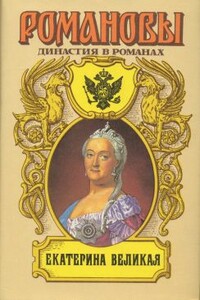
Екатерининская эпоха привлекала и привлекает к себе внимание историков, романистов, художников. В ней особенно ярко и причудливо переплелись характерные черты восемнадцатого столетия – широкие государственные замыслы и фаворитизм, расцвет наук и искусств и придворные интриги. Это было время изуверств Салтычихи и подвигов Румянцева и Суворова, время буйной стихии Пугачёвщины…В том вошли произведения:Bс. H. Иванов – Императрица ФикеП. Н. Краснов – Екатерина ВеликаяЕ. А. Сапиас – Петровские дни.

Роман замечательного русского писателя-реалиста, видного деятеля Белого движения и казачьего генерала П.Н.Краснова основан на реальных событиях — прежде всего, на преступлении, имевшем место в Киеве в 1911 году и всколыхнувшем общественную жизнь всей России. Он имеет черты как политического детектива, так и «женского» любовно-психологического романа. Рисуя офицерскую среду и жизнь различных слоев общества, писатель глубиной безпощадного анализа причин и следствий происходящего, широтой охвата действительности превосходит более известные нам произведения популярных писателей конца XIX-начала ХХ вв.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.