Понять - простить - [52]
— Тем более, Алик, — сказал Синегуб, отрываясь от сигары, — Кусков не съест так "подлеца".
— А Муратов — пощечины, — сказал Лобысевич-Таранецкий.
— Что же вы придумали, князь? — сказал Лотосов.
— Я понимаю, я понимаю, господа, — сжимая и разжимая в руке мешочек с табаком, говорил Алик, — я понимаю всю запутанность, сложность, сугубость, так сказать, положения… Но, господа, господа!.. Что же, мы будем стоять и смотреть, пока один не убьет другого? Нет!.. Мы не палачи, мы не большевики, мы не чрезвычайка…
— Именно, князь, мы не большевики, — сказал Лобысевич-Таранецкий. — Если бы мы были большевиками, социалистами, мы бы их помирили. Там это можно. Получил пощечину — на тебе деньги и поезжай в другой город проветриться. В другой раз будь осторожнее и не ухаживай за чужими женами. Но мы, князь, старые русские дворяне, лишенные всего. У нас отняли имущество, отняли наши поместья, сожгли наши поэтичные усадьбы, но, князь, чести у нас еще никто не отнимал, и мы не можем отнять ее ни у Муратова, ни у Кускова. И чем лучше они, тем более жестокой должна быть дуэль.
— Я, господа… Может быть, это и нехорошо, — заговорил князь Алик. Он встал со своего места и начал ходить широкими шагами по ковру, — может быть, это и смешно, но я бы вызвал их к себе и предложил помириться… протянуть друг другу руки и поцеловаться… Ведь, господа… Я не хочу ничего, ничего худого сказать про графиню… Но, господа, кто не знает, что она за женщина? И тут… Серега просто погорячился, как всегда…
— Князь, — сказал Лобысевич-Таранецкий, — тут вопрос не о графине, а вопрос об оскорблении, не смываемом иначе, как смертью.
— Ну, хорошо, господа, — князь остановился у пианино. — Хорошо. Пусть съедутся с пистолетами в Венсенском лесу, и там мы потребуем, чтобы они на месте дуэли помирились. Ваше превосходительство? Как вы думаете?
— Я думаю, что Муратов никогда на это не пойдет. Кускова я не знаю, — сказал Лотосов.
— Положим, — сказал князь, — и Кусков, пожалуй, не согласится. Ах, какая история! Но мы уговорим. Это наш священный долг помирить их.
— На потеху французам, — сказал Синегуб. — Ну, хорошо, до первой крови.
— Это, князь, не выход, — сказал Синегуб.
— Ваше сиятельство, — сказал Лобысевич-Таранецкий. — Позвольте мне формулировать мое предложение.
— Пожалуйста, — сказал Алик, зябко пожимаясь.
— Надо сделать так, чтобы иностранцы не могли смеяться над русскими — для этого смерть одного из противников обязательна. Это удовлетворит и дуэлянтов, по крайней мере, насколько я могу говорить от своего доверителя, Сергея Сергеевича Муратова. И я предлагаю — американскую дуэль.
— То есть?
— На узелки… Кто вытянет пустой кончик платка — тому смерть. Застрелиться через двадцать четыре часа.
— Это садизм в духе чрезвычайной комиссии. И притом… Американскую дуэль никогда не предлагают секунданты. Она решается самими дуэлянтами.
— Верно, князь, но теперь совсем особые времена, и это самый совершенный способ дуэли в случаях слишком тяжких оскорблений, — сказал Синегуб.
— Я, господа, не могу, не могу на это согласиться. Пойдем на голоса. Ваше превосходительство?
— Иного выхода нет.
— Павло?
— Я держусь того же мнения. Американская дуэль -
наилучший выход.
— Но, князь, отчего вы волнуетесь? — сказал Лобысевич-Таранецкий. — Ведь это не обязательно. Любая сторона может не согласиться и уехать. И конец.
— Светик никогда на это не пойдет.
— Серега тоже, — сказал Синегуб.
— Ничего другого не остается, князь, — сказал Лотосов.
— Я бы предложил так, — сказал Синегуб. — Завтра утром объявим им обоим, и, если оба соперника примут условия, завтра в полночь мы соберемся у le Rignon. Под звуки танго графиня протянет в зажатой руке два кончика платка. Из них один с узелком. У кого пустой — тому смерть. Тот, кто вытянет жизнь, — должен сейчас же на трое суток покинуть Париж. Другой едет… на следующую ночь… Ну, хотя бы в Auteuil, в Bois de Boulogne, и там стреляется…
— Это садизм большевицкой чрезвычайки! — воскликнул Алик. — Вы, ваше превосходительство?
— Я что же… Как они… Секунданты…
— Три голоса, ваше сиятельство, "за", — сказал Лобысевич-Таранецкий. — Вы один против.
— Это смертная казнь!.. Это убийство!..
XXXII
В ушах еще звучали скрипки, игравшие танго, в глазах еще крутилась на стержне стеклянная дверь шикарного ночного ресторана, когда Светик поднялся с Арой в ее комнату. Он повесил на крючки свою старую шляпу и зеленое пальто.
— Теперь, — сказала Ара, пряча у него на груди плачущее лицо, — теперь все равно… Все можно… Я твоя.
Перед глазами Светика все стоял шумный, яркий ресторан. Казалось, он еще слышал резкие звуки тарелок Джаз-банда. За соседним столиком усаживались какие-то Французы. Офицер в голубовато-сером мундире со стоячим воротником с вышитым номером, с колодкой орденов во всю грудь презрительно и высокомерно смотрел на скромный пиджак Светика. Два штатских, утрированно, по моде одетых, со слишком тонкой, острой складкой на коротких, узких книзу брюках, в лакированных башмаках с бантами, прилизанные, с блестящими от брильянтина черными затылками, были с офицером. С ними дама.
Она села спиной к Светику. Ее спина, обнаженная узким мысом почти до пояса, блестела при свете люстр холеной кожей. Возле их столика суетились лакеи. Подали шампанское и коктейль. Муратов, прямой, строгий, сидел молча, наискось. Рядом с ним — бледный изящный Алик. Лицо Алика все время подергивалось.
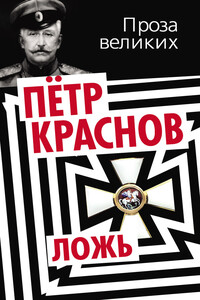
Автобиографический роман генерала Русской Императорской армии, атамана Всевеликого войска Донского Петра Николаевича Краснова «Ложь» (1936 г.), в котором он предрек свою судьбу и трагическую гибель!В хаосе революции белый генерал стал игрушкой в руках масонов, обманом был схвачен агентами НКВД и вывезен в Советскую страну для свершения жестокого показательного «правосудия»…Сразу после выхода в Париже роман «Ложь» был объявлен в СССР пропагандистским произведением и больше не издавался. Впервые выходит в России!

Краснов Петр Николаевич (1869–1947), профессиональный военный, прозаик, историк. За границей Краснов опубликовал много рассказов, мемуаров и историко-публицистических произведений.

Роман «С Ермаком на Сибирь» посвящен предыстории знаменитого похода, его причинам, а также самому героическому — без преувеличения! — деянию эпохи: открытию для России великого и богатейшего края.
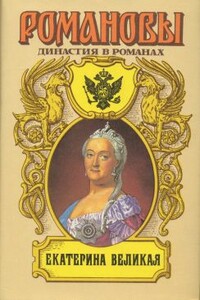
Екатерининская эпоха привлекала и привлекает к себе внимание историков, романистов, художников. В ней особенно ярко и причудливо переплелись характерные черты восемнадцатого столетия – широкие государственные замыслы и фаворитизм, расцвет наук и искусств и придворные интриги. Это было время изуверств Салтычихи и подвигов Румянцева и Суворова, время буйной стихии Пугачёвщины…В том вошли произведения:Bс. H. Иванов – Императрица ФикеП. Н. Краснов – Екатерина ВеликаяЕ. А. Сапиас – Петровские дни.

Роман замечательного русского писателя-реалиста, видного деятеля Белого движения и казачьего генерала П.Н.Краснова основан на реальных событиях — прежде всего, на преступлении, имевшем место в Киеве в 1911 году и всколыхнувшем общественную жизнь всей России. Он имеет черты как политического детектива, так и «женского» любовно-психологического романа. Рисуя офицерскую среду и жизнь различных слоев общества, писатель глубиной безпощадного анализа причин и следствий происходящего, широтой охвата действительности превосходит более известные нам произведения популярных писателей конца XIX-начала ХХ вв.

Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) - русский писатель и публицист, по словам современников, соединивший человека и природу простой сердечной мыслью. В своих путешествиях по Русскому Северу Пришвин знакомился с бытом и речью северян, записывал сказы, передавая их в своеобразной форме путевых очерков. О начале своего писательства Пришвин вспоминает так: "Поездка всего на один месяц в Олонецкую губернию, я написал просто виденное - и вышла книга "В краю непуганых птиц", за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя даже себе всю глубину моего невежества в этой науке".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».