Полнолуние - [4]
— Плохо… Но мы ведь не виноваты, что у нас нет ножниц и мы не можем делать все, что хотим.
— Можно достать ножницы. Я достала бы, только не знаю, где их искать. Ты лучше знаешь, чем я.
Он снова опустил голову.
— Ладно… достану.
Он гладил ее руку — тонкую, худую, прозрачную.
— Ты не жалей моих волос.
Он повторил, не подымая глаз:
— Ладно… — А потом добавил: — Теперь ты меня причеши!
Она тут же взяла гребень — тот самый, с четырьмя зубьями. Осторожно провела по коротко стриженной голове.
— Если б еще и твои волосы были талисманами, — сказала она, — тогда бы уж точно на всех хватило. Ничего, что они короткие. Верно?
Он кивнул.
Больше руками, чем гребнем, приглаживала она его короткие жесткие волосы и видела, как они блестят.
Потом, когда совсем стемнело, а уличный фонарь почему-то не светил — может, кто-то решил, что еще рано, а может, просто забыл включить, — они вытянулись на цементном полу, плотно прижавшись друг к другу: он уперся в кирпичную стену правым боком, а она — левым.
Высоко вверху, должно быть в небе, они увидели тонкий серп.
— Смотри! — сказал он. — Это молодой месяц. Он целую неделю будет расти, расти, пока не вырастет в полную луну — с носом, ртом и глазами. Через неделю, понимаешь?
Он уже не помнил точно, за сколько времени превращается месяц в полную луну, но почему-то решил, что за неделю. Так и сказал.
— Правда? За неделю он вырастет такой большой? За семь дней?
— Ага. Сама увидишь.
Они помолчали, глядя на молодой месяц.
И почему-то обоим хотелось, чтобы он рос помедленней, пускай не неделю, а гораздо дольше — много дней, много недель и месяцев. Как ни приятно видеть полную луну, смеяться над ее кривым носом, пятнами глаз и разинутым ртом, все же куда приятнее глядеть на тоненький серп и ждать, ждать, пока он вырастет, и знать, что он будет понемножку расти, расти и только потом уже станет круглой, смеющейся луной.
Они лежали, глядя в небо и плотно прижавшись друг к другу, и две старые кирпичные стены, которые все никак не перестанут краситься, осыпали их рыжеватой пылью.
В этот раз высоко над ними горел уличный фонарь.
Он принес за пазухой книжку — тоже захватанную, зачитанную, с обтрепанными углами, без начала и без конца. Но сегодня он не хотел читать и книжку взял просто так, на всякий случай.
Они лежали рядом и, щурясь, глядели на свет фонаря, а там, под его широкой шляпой, плясали мириады пылинок.
И в ярком свете фонаря рисовались не только острые огненные спицы, но и невиданные миры, которые то ли были когда-то, то ли еще будут когда-нибудь, то ли не будут никогда. Эти миры были светлые, как лампа, и радужно-пестрые, как пыльная шляпа фонаря.
Она зажмурилась.
Перед ее закрытыми глазами кружились, сталкивались сотни светлых ламп и мерцали невиданные миры, которые то ли были, то ли еще только будут, то ли не будут никогда. И миры эти были пестрые, как птицы.
Она еще крепче зажмурилась и спросила:
— Что бы мы стали делать, если мы были бы дети после войны?
Он тоже зажмурился, но молчал, не зная, что ответить.
Да, он не знал, что ответить. Знал только, что она спросит это.
Они часто сидели так друг перед другом и подолгу молчали, а потом она чуть слышно говорила:
— Я хочу, чтобы нам с тобой было весело.
— Разве тебе не весело со мной?
— Нет! Нет! Мне очень весело.
— Так чего же ты?
— Я хочу, чтобы еще веселее.
И снова долго сидели молча.
Не важно, что молчали. Все равно он знал, что она скажет.
— Давай будем дети после войны, — тихо шептала она, опустив голову и закрыв лицо худыми, прозрачными руками.
А он все молчал, не зная, что сказать в ответ.
— ДАВАЙ БУДЕМ ДЕТИ ПОСЛЕ ВОЙНЫ.
Легко сказать — давай. А попробуй вот! Разве получится?
Легко сказать…
Она снова спросила, но теперь уже по-другому:
— Что бы мы стали делать — дети после войны?
Он мог достать из-за пазухи книжку — зачитанную, с обтрепанными углами, без начала и без конца. Но сегодня ему не хотелось читать. Он смотрел выше фонаря — в небо, на лунный серп, слегка раздавшийся, и, так же как она, видел невиданные миры. Радужно-пестрые, как птицы. Как пестрокрылые дятлы.
Почему так бывает, когда смотришь, прищурясь, на фонарь или на молодой месяц?
Они еще маленькие. Совсем крохотные, гораздо меньше, чем на самом деле, просто два карапуза. Они брат и сестра. И даже трудно сказать, кто из них младше, кто старше, такие они малявки.
Зато оба на редкость умные и хитрые.
Лето жаркое, с неба печет, они все живут в лесу, на большой зеленой даче, а кругом тоже зелень, и сосны высокие шумят.
По верхушкам скачут белки. Сядет рыжая на ветку, оглядится — и давай шишки лущить, шелухой плеваться. А глаза — ну точно пуговки, зубки острые — блик, блик — поблескивают. А по крыше скачет — будто гром средь ясного дня, настоящая гроза, только молнии не хватает.
Брат и сестра как услышат, враз притворятся, будто страшно им — очень уж грозная гроза. А сами хохочут.
До того они оба умные и хитрые.
Вот папа закурит, а сестра подойдет и скажет:
— Папа, зачем ты куришь?
— Курю, и все, а в чем дело?
— Не кури, пап…
— Это еще почему?
— Когда ты куришь, у тебя дым из носа…
Брат, он тоже за словом в карман не лезет.
Однажды пришла к ним в гости тетя — красивая, лицо белое такое, а губы красные. Тетя очень ему понравилась, он сразу к ней подошел и спрашивает:
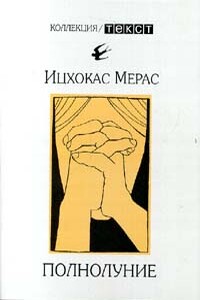
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
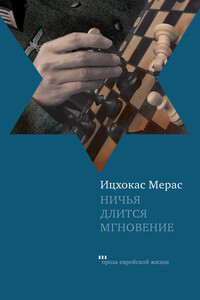
В книгу вошли три романа известного литовского писателя, ныне живущего в Израиле. Все они стали ярким событием в литературной жизни. Действие их происходит в годы Второй мировой войны, и трагедию еврейского народа автор воспринимает как мировую трагедию. «Там дальше — тоже гетто, — пишет Мерас. — Только и разница, что наше гетто огорожено, а там — без ограды».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
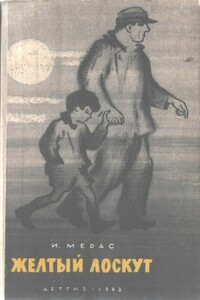
Трагические судьбы безвинных жертв фашизма, узников многочисленных концлагерей, в которых озверелые расисты сгубили многие тысячи людей, уже не раз были предметом литературных произведений, глубоко волновавших миллионы читателей. Весь мир обошел знаменитый «Дневник Анны Франк».Повесть И. Мераса «Желтый лоскут» — это тоже своеобразный дневник человека, в детстве испытавшего все ужасы фашистской оккупации.На первый взгляд может показаться, что героя повести Бенюкаса окружает сплошная беспросветная тьма и надежды, на спасение нет.
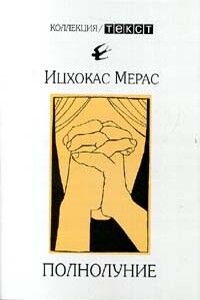
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
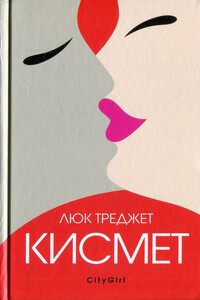
«Кто лучше знает тебя: приложение в смартфоне или ты сама?» Анна так сильно сомневается в себе, а заодно и в своем бойфренде — хотя тот уже решился сделать ей предложение! — что предпочитает переложить ответственность за свою жизнь на электронную сваху «Кисмет», обещающую подбор идеальной пары. И с этого момента все идет наперекосяк…
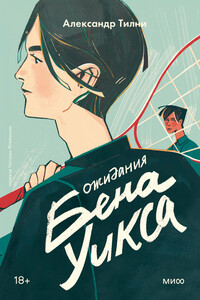
Бен Уикс с детства знал, что его ожидает элитная школа Сент-Джеймс, лучшая в Новой Англии. Он безупречный кандидат – только что выиграл национальный чемпионат по сквошу, а предки Бена были основателями школы. Есть лишь одна проблема – почти все семейное состояние Уиксов растрачено. Соседом Бена по комнате становится Ахмед аль-Халед – сын сказочно богатого эмиратского шейха. Преисполненный амбициями, Ахмед совершенно не ориентируется в негласных правилах этикета Сент-Джеймс. Постепенно неприятное соседство превращается в дружбу и взаимную поддержку.
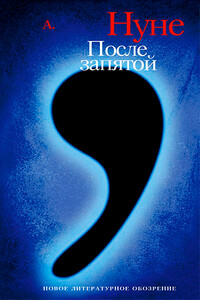
Самое завораживающее в этой книге — задача, которую поставил перед собой автор: разгадать тайну смерти. Узнать, что ожидает каждого из нас за тем пределом, что обозначен прекращением дыхания и сердцебиения. Нужно обладать отвагой дебютанта, чтобы отважиться на постижение этой самой мучительной тайны. Талантливый автор романа `После запятой` — дебютант. И его смелость неофита — читатель сам убедится — оправдывает себя. Пусть на многие вопросы ответы так и не найдены — зато читатель приобщается к тайне бьющей вокруг нас живой жизни. Если я и вправду умерла, то кто же будет стирать всю эту одежду? Наверное, ее выбросят.
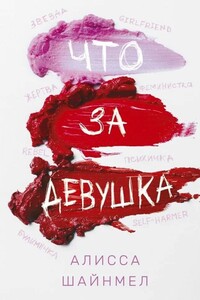
Однажды утром Майя решается на отчаянный поступок: идет к директору школы и обвиняет своего парня в насилии. Решение дается ей нелегко, она понимает — не все поверят, что Майк, звезда школьной команды по бегу, золотой мальчик, способен на такое. Ее подруга, феминистка-активистка, считает, что нужно бороться за справедливость, и берется организовать акцию протеста, которая в итоге оборачивается мероприятием, не имеющим отношения к проблеме Майи. Вместе девушки пытаются разобраться в себе, в том, кто они на самом деле: сильные личности, точно знающие, чего хотят и чего добиваются, или жертвы, не способные справиться с грузом ответственности, возложенным на них родителями, обществом и ими самими.

История о девушке, которая смогла изменить свою жизнь и полюбить вновь. От автора бестселлеров New York Times Стефани Эванович! После смерти мужа Холли осталась совсем одна, разбитая, несчастная и с устрашающей цифрой на весах. Но судьба – удивительная штука. Она сталкивает Холли с Логаном Монтгомери, персональным тренером голливудских звезд. Он предлагает девушке свою помощь. Теперь Холли предстоит долгая работа над собой, но она даже не представляет, чем обернется это знакомство на борту самолета.«Невероятно увлекательный дебютный роман Стефани Эванович завораживает своим остроумием, душевностью и оригинальностью… Уникальные персонажи, горячие сексуальные сцены и эмоционально насыщенная история создают чудесную жемчужину». – Publishers Weekly «Соблазнительно, умно и сексуально!» – Susan Anderson, New York Times bestselling author of That Thing Called Love «Отличный дебют Стефани Эванович.
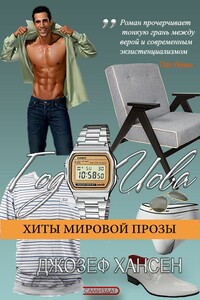
Джозеф Хансен (1923–2004) — крупнейший американский писатель, автор более 40 книг, долгие годы преподававший художественную литературу в Лос-анджелесском университете. В США и Великобритании известность ему принесла серия популярных детективных романов, главный герой которых — частный детектив Дэйв Брандсеттер. Роман «Год Иова», согласно отзывам большинства критиков, является лучшим произведением Хансена. «Год Иова» — 12 месяцев на рубеже 1980-х годов. Быт голливудского актера-гея Оливера Джуита. Ему за 50, у него очаровательный молодой любовник Билл, который, кажется, больше любит образ, созданный Оливером на экране, чем его самого.
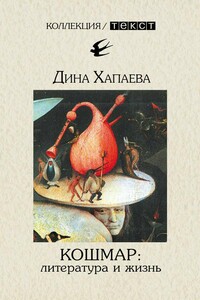
Что такое кошмар? Почему кошмары заполонили романы, фильмы, компьютерные игры, а переживание кошмара стало массовой потребностью в современной культуре? Психология, культурология, литературоведение не дают ответов на эти вопросы, поскольку кошмар никогда не рассматривался учеными как предмет, достойный серьезного внимания. Однако для авторов «романа ментальных состояний» кошмар был смыслом творчества. Н. Гоголь и Ч. Метьюрин, Ф. Достоевский и Т. Манн, Г. Лавкрафт и В. Пелевин ставили смелые опыты над своими героями и читателями, чтобы запечатлеть кошмар в своих произведениях.
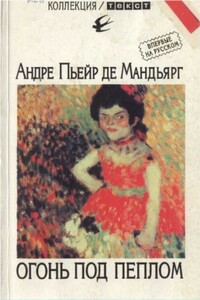
Новеллы французского писателя Андре Пьейра де Мандьярга завораживают причудливым переплетением реальности и фантазии, сна и яви; каждый из семи рассказов сборника представляет собой великолепный образчик поэтической прозы.
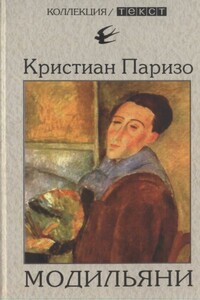
Профессор орлеанского Института изобразительных искусств, директор Архива Модильяни в Париже и Ливорно, Кристиан Паризо представляет Амедео Модильяни не только великолепным скульптором, живописцем и рисовальщиком, но прежде всего — художником редкостного обаяния, каковым он остался в истории мирового искусства и в памяти благодарных потомков. В книге дана широкая панорама жизни парижской богемы, когда в ее круг входили знаменитые художники XX века — Пикассо, Брак, Сутин, Бранкузи, Шагал.
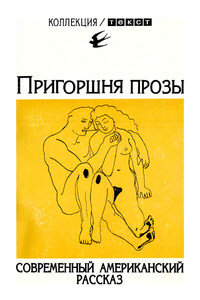
В сборник вошли 25 рассказов, увидевших свет в американских журналах в 1990 году. Авторы разных поколений, признанные мастера и новички, представляют различные литературные течения и пишут на самые разные темы. Сборник дает широкую панораму современной американской прозы. Он может быть использован как хрестоматия для студентов-филологов.