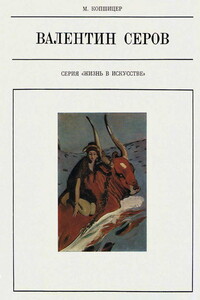Поленов - [4]
И вот тут-то Марии Алексеевне следовало объяснить сыну (а заодно и читателям книги), что Митя (Вася) неверно понял то, в каком значении употреблено здесь слово «охотники», что речь идет не о тех охотниках, которые «с ружьями», а о тех, которым охота (то есть желание) таскаться по пирам.
Впрочем, папа совершает не менее печальные ошибки. Хотя он правильно объясняет значение слова «лукоморье», с которого начинается знаменитый пролог к поэме Пушкина, но тут же утверждает, что «стихи эти Александр Сергеевич написал в своей первой молодости, здесь, в Царскосельском лицее, где он воспитывался».
Увы, поэму «Руслан и Людмила» Александр Сергеевич написал, пожалуй, «во второй молодости» — в Петербурге, после окончания Царскосельского лицея, а пролог к ней — «У лукоморья дуб зеленый…», то есть то, что читали детям, — написан в Михайловском человеком зрелым, автором «Бориса Годунова» и первых глав «Онегина»…
А может быть, папа вовсе и не повинен в этой ошибке, ведь все это только рассказ, где он — один из героев, и слова его могли быть просто ошибкой самой Марии Алексеевны. Ведь папа, Дмитрий Васильевич Поленов, — человек по-настоящему ученый, и то, что он знает, он знает глубоко.
Но прежде чем говорить о Дмитрии Васильевиче, мы, как было обещано вначале, расскажем о его предках, главным образом об одном из них (также прадеде художника) — Алексее Яковлевиче Поленове. Родился Алексей Яковлевич в Костромской губернии, где предки его, служилые люди, получили в свое время небольшое имение. Он успешно окончил гимназию при Академии наук и был послан для дальнейшего образования в Страсбург и Гёттинген. Таким образом, вернувшись в Россию, он оказался первым юристом («законоведом», как тогда выражались) с высшим образованием. Разумеется, если бы Алексей Яковлевич был знаменит только этим, едва ли стоило писать о нем как о замечательной личности.
Главным деянием его жизни было следующее: по возвращении его в Россию в 1766 году Вольное экономическое общество, за год до того основанное, предложило конкурс трактатов на тему: «Что полезнее для государства, чтобы крестьянин имел в собственности землю или только движимое имение, и сколь далеко на то и другое его право простирается».
На конкурс было подано 162 трактата, из них лишь семь русских. Первую премию, тысячу червонцев, получил Беарде де Лаббей, трактат которого весьма понравился автору темы — государыне Екатерине II — своею умеренностью. Беарде де Лаббей предлагал с величайшей осторожностью и неторопливостью готовить «рабов» к принятию свободы.
Трактат же Алексея Яковлевича был резок и предлагал радикальные решения немедленно. Автор говорил о том, что рабовладение позорно, что «для славы народа и для пользы общества надо вывести производимый человеческой кровью бесчестный торг», и даже предлагал немедленно заняться не только освобождением крестьян с земельным наделом, но и искоренением безграмотности в народе.
И хотя сочинение его было отмечено как лучшее среди русских трактатов, автору предложили смягчить «не в меру сильные выражения», «по здешнему неприличные». Он смягчил и получил золотую медаль в 12 червонцев «с прописанием на оной имени автора».
Таким образом, А. Я. Поленов явился даже в некотором роде предшественником Радищева. И хотя Алексей Яковлевич и не напечатал своего сочинения, а потому не подвергся тем бедам, каким подвергся Радищев, но был потомками награжден своеобразным титулом «первого русского эмансипатора», ибо его идеи действительно предвосхитили идеи Радищева лет на тридцать.
Служить с такими взглядами было трудно, и не просто трудно, а практически невозможно. Алексей Яковлевич удалился от дел и купил имение в местах столь глухих, что там в ту пору еще и тележных дорог не было, — на границе Петербургской и Олонецкой губерний, на правом берегу пограничной, между двумя губерниями, реки Ояти. Имение относилось к Олонецкой губернии и называлось Имоченским погостом.[1] Имение это с XVI века принадлежало боярам Вындомским, в XVIII веке перешло к некоему Мельгунову, у которого и купил его Алексей Яковлевич. Он тотчас же перевел крестьян с барщины на оброк, причем оброк определил самый мизерный, и на эти средства жил до конца своих дней. Умер он в Петербурге в 1817 году, когда внуку его, отцу художника, было уже десять лет. Так что деда своего Дмитрий Васильевич помнил хорошо, сохранил в память о нем небольшое бюро красного дерева, на котором был писан знаменитый трактат, хранил и сам трактат, и письма деда…
Василий Алексеевич Поленов, сын Алексея Яковлевича и отец Дмитрия Васильевича, тоже был человеком умным, но никакими выдающимися делами не отмечен. Как почти все молодые русские люди, был он в свое время офицером, но столь блестящей роли, как Воейков, в кампании 1812 года не сыграл: он был начальником походной канцелярии адмирала Чичагова.
После войны он, так же как и отец, занялся научной деятельностью, которая, правда, не носила крамольного характера, а потому за научные труды был удостоен звания академика и многих иных почетных званий.
Впрочем, о нем можно сказать еще, что, став в 1834 году начальником Государственного архива, он встречался там с Пушкиным, работавшим в ту пору над «Историей Пугачева», сохранилось (и теперь печатается во всех собраниях сочинений) письмо Пушкина Василию Алексеевичу Поленову, датированное 28 августа 1835 года.
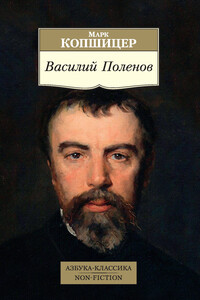
Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927) – русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи, педагог, представитель в высшей степени интеллигентной дворянской семьи, участник Русско-турецкой войны, автор декораций к театральным постановкам, член Товарищества передвижных художественных выставок, большой любитель музыки и автор нескольких музыкальных произведений. Чрезвычайно обаятельный человек, связанный многолетними дружескими узами с видными представителями художественного мира России конца XIX – начала XX века. Таким предстает Василий Поленов в замечательной биографии Марка Копшицера, написанной великолепным литературным языком и мастерски сочетающей детальность и основательность солидного искусствоведческого исследования с занимательностью биографического романа.
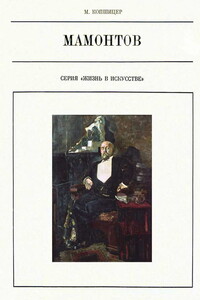
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.