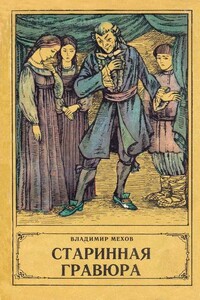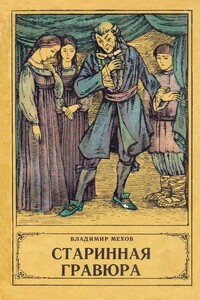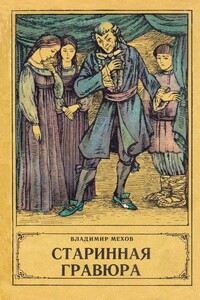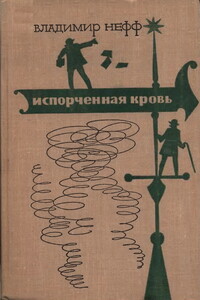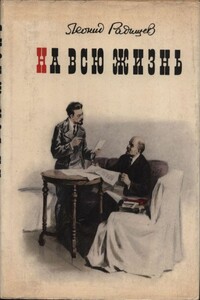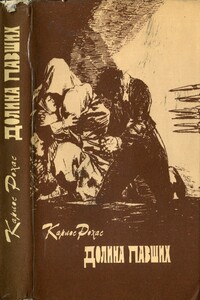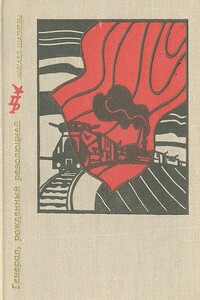Вот Соболь с гордостью называет себя человеком Петра Могилы. А того не может и уразуметь, что не на пользу себе, а во вред называет. Ибо исподлобья, с недоверием приглядываются московские ризоносцы к громогласному киевскому первосвященнику. Горло дерет он за веру, конечно, православную. Однако слишком уж часто ссылается на писанное и говоренное разумниками западной, римской науки. Так не чужак ли он и сам, коль чужаков так почитает? Не папист ли, не тайный ли слуга Ватикана?
Вот Соболь считает, что произошло недоразумение, только потому не получил он ответа на челобитную. Считает, что не мог царь отказаться от того, чтобы еще иметь сведущего подданного, умеющего с языков чужеземных снимать тайну. Как же рассказать ему, да еще при соглядатаях, что царь и ближние бояре противоположного держатся — чтоб чужеземное тайной за семью печатями для Руси оставалось всегда.
Ох, погоняет сегодня князь канцелярскую плотву в съезжей, ох, погоняет дома челядь! Надо ведь на ком-то выместить развереженную Соболем злость…
А для Соболя началась тоска ожидания. Он привык с утра до вечера быть занятым — делами друкарскими, школьными, переговорами с торговцами, которым отдает напечатанное. А здесь проснешься в каморке на заезжем дворе от утреннего крика, брани, печального конского ржанья за слюдяным окошком на улице, и думай: а сегодня на долгие часы, пока не стемнеет вновь, куда себя подеть-пристроить? Если б еще знать определенней сразу, на сколько надо набраться терпения — на неделю, на месяц, на лето? Так ведь никто не угадает, когда в посольском приказе[2] в Москве дадут ход его делу. Там же так: захотят — на писанное о нем воеводе ответят быстро. Не захотят — отложат, пока хотенье появится. Или перешлют полученное в государевы палаты — сам пускай решает, желанен или не желанен Москве настырный могилевец. А ты броди, шатайся по надоевшей Вязьме. Или вертись возле съезжей то с нерастраченной еще надеждой, то во всем изуверившийся. Поглядывай издали, как в расписном возке подкатывает воевода, вновь и вновь перебирай в памяти говоренное, досказывай при той беседе недосказанное.
И садит Спиридон Соболь в думах князя Юрия Петровича рядом. И тот ладонью бороду теребит, как в тот раз, когда Соболь перед ним стоял, но в глазах его зеленых — доброта. Терпеливо, благожелательно слушает. Что в Могилеве стало невмоготу. Что новый польский король, как и прежний, подлец. Не держит обещания, которое давал, садясь на трон. Ну не бросают ныне книжки в костры лишь за то, что не латиницей, а кириллицей, русскими буквами писаны. Однако и не очень ведь поощряют их печатать. Обижают-шпыняют и друкарей — сколько раз на своей шкуре это Соболь почувствовал! — и купцов, продающих книжки, и людей, их покупающих.
Вот и нет Соболю покоя с той поры, как побывал в Москве. Не выходит она из головы и из сердца. Может, и правду молвил воевода, что прихватили королевские посланники Соболя напоказ. Но как там показался Соболь Москве, он не знает, а вот Москва ему неотвязно запала в душу.
В сладких снах — и не хочется просыпаться, когда это снится, — ночь за ночью видит себя на Печатном дворе. Подле каждого здания там поначалу останавливается — высматривает, не выйдет ли из дверей высокий, невзгодами не согнутый Иван Федоров, великий мастер, чью плашку-концовку с нарезанными лепестками захватил из Могилева в числе самых дорогих вещей. Потом с болью вспоминает, что стоял некогда во Львове над могилой русского первопечатника, и, значит, не может теперь его встретить. Спохватывается, спешит за провожатым своим Василием Бурцевым.
Шустрый, кругленький, колючий — не только барсучьей шубейкой и шапкой, но и волосьем гордо вскинутой бороды, и настороженными глазками, — Бурцев выполняет распоряжение посольского приказа, знакомит товарища по делу, заграничного гостя с уголком Московского царства, отданного книге во владение. Щекочут Соболю ноздри знакомые запахи горячего металла, красок, клея. Пальцы чувствуют на ощупь резьбу, когда касается он дощечек с рисунками. Занимает дух в прави́льной палате, так тут просторно, так удобно работать — сиди, грамотей, читай оттиск с набора, чтобы не было в нем ошибок, а за царем и казной твое тщание не пропадет.
— Завидки берут, а? В Могилеве такого нет? — хвастливо, как и наяву было, когда катился он перед Соболем по Печатному двору, подкусывает Бурцев.
Он вообще козырится, важничает, Бурцев. Видно, что не может опомниться от удачи — от того, что именно он, некогда безвестный друкарский подмастерье, стал таким именитым: составляет и выпускает книги малым и большим для чтения и покупают их лучше всех печатающихся в стольном граде Руси. Довольный собой, из терема в терем Печатного двора перекатывается, завистливые взгляды в спину чувствует, и кому из бывших сотоварищей в ответ на поклон кивнет, а кого и так, без кивка оставит.
Соболь не обижается, что пренебрежительно о Могилеве говорится. Лишь вздыхает, глядя на столы и лавки, заваленные листами будущих книг:
— А и нету… нету…
И так становится ему тоскливо, так сжимает грустью сердце, что просыпается он и лежит до рассвета без сна, одной невеселой думой другую прогоняет…