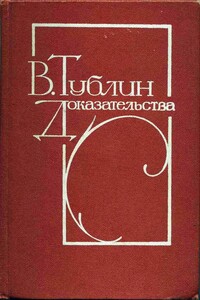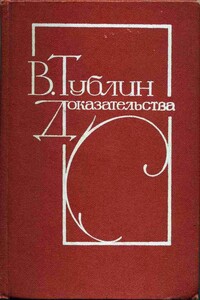Покидая Эдем - [16]
Голос, вырываясь из трубки, мечется по комнате. Он задает вопросы; вопросы эти подобны выстрелам картечью, они не оставляют надежды. Требуется немедленное вмешательство. Требуется немедленный ответ. Блинов слушает с бесстрастным лицом, чуть отстранив — из‑за чрезмерной громкости — трубку от уха. На его лице по‑прежнему нельзя ничего прочесть, нельзя понять, слышит ли он громкий, требовательный голос. На его лице ничего не написано, кроме вежливого внимания, кроме естественного нетерпения человека, оторванного от дела. Если бы не легкое подрагивание нижней губы, можно было бы предположить, что он вовсе не здесь, что он ничего не слышит. Потом он начинает отвечать, бросает короткие, отрывистые фразы, он вежлив, он сдержан, он холоден.
— Да, — говорит он. — Нет, — говорит он. — Нет, я не забыл. Нет. Да. Я бы хотел…
Но трубка перебивает его, она рычит, ей вовсе неинтересно знать, чего бы он хотел, она сама хочет, она требует… чего она требует? Она требует немедленного, неукоснительного следования… или, может быть, расследования… она требует расследования и подчинения, повиновения, а может быть, извинения тоже. Разговор бесполезен. Так он и говорит. Разговор бесполезен, бессмысленно разговаривать в таком тоне, об этом он тоже говорит трубке. Короткий обмен новыми «да» и «нет», и он говорит:
— Хорошо. Я зайду к вам. Да, сейчас.
И вешает трубку.
Тишина, тишина, лавина пронеслась мимо, опасность миновала, наступила пора вопросов, можно перевести дух.
— Что случилось?
— Это новый ГИП, — говорит кто‑то.
— Ну и глотка.
— Что случилось, что случилось? Он что, с луны свалился?
Тишина. Взоры направлены на невозмутимое, слегка покрасневшее лицо.
Николай Николаевич Блинов, кандидат технических наук, обводит взглядом большую комнату — сектор вертикальной планировки. Взгляд его маленьких, слишком близко посаженных глаз встречается с другими взглядами. В некоторых он читает любопытство, в некоторых — недоумение, или равнодушие, или злорадство. В одних глазах — он знает — тревога, но в ту сторону он не смотрит.
— Ничего, — произносит он своим ровным голосом. — Ничего не случилось.
И вот он снова идет через всю комнату к своему рабочему месту. За его спиной, словно след прошедшего корабля, соединяются прерванные невольной паузой голоса.
Они говорят:
— Ну он и дает, этот новый…
Они продолжают:
— Так вот, вчера в Пассаже… да, такие маленькие, с опушкой.
Они говорят:
— А наш‑то, Ник‑Ник, бровью не повел.
И еще продолжают они:
— А Зингер… третий буллит — не‑ве‑ро‑ят‑но!
— Такие ножки, что…
— Расчет весеннего стока показал…
— В перерыв? Хорошо. А ты слышал, как он — бессмысленно!
— Неужели не читал? Называется «Колыбель для кошки». И ничего смешного нет. Ни‑че‑го.
Что может так болеть? В скрытой от взгляда глубинной темноте его тела происходят тихие, незаметные процессы: одни клетки вторгаются в другие, пожирают их, увеличиваются — это еще можно понять… Но откуда, почему боль? Когда‑то он видел в степи охоту с беркутом: беркут сидел, вонзив кривые втягивающиеся когти в сыромятную рукавицу старого плосколицего киргиза, на голове беркута был колпачок, когти, все время пульсирующие, сжимались — рано или поздно колпачок снимался, и тогда можно было, выпустив рукавицу, вонзить заждавшиеся когти в нежные перламутровые внутренности и рвать их.
Такие вот разрывающие его внутренности когти и чувствовал он. С каждым днем они проникали в него все глубже и глубже… А он должен был терпеть это изо дня в день.
Терпение. Он должен терпеть… До тех пор, пока все не кончится.
Большая, покрытая черной жесткой шерстью рука прижимается к тому месту, где боль особенно сильна. От этого он чувствует некоторое облегчение. Терпеть и терпеть? Но за что? Он всю жизнь мыслил четкими, определенными категориями, он привык докапываться до причин, все должно быть взаимосвязано и обусловлено, во всем должен быть смысл. А какой смысл в его болезни? Он не находил никакого смысла. Он ни в чем не виновен, ни в чем — ни перед собой, ни перед людьми. Жизнь не гладила его по головке, не баловала, не давала поблажек — правда, не давал поблажек и он, этому он научился у жизни. Да, он стал жестким, что есть, то есть. Он — как железо, его не согнешь, нет, подполковника Кузьмина согнуть не так‑то просто, а сломать его вовсе невозможно. Никогда. Если бы он был сделан из другого материала — вот тогда это могло бы произойти. Четыре года войны. Он не был в тылу ни дня, он строил под огнем, строил мосты, переправы, блиндажи, доты, — под любым огнем, летом и зимой. Его ордена — они не упали с неба. С неба падали только бомбы, комья земли. Нет, небо не было ласковым к нему, от неба не приходилось ожидать ничего хорошего, он весь принадлежал земле, ясному и жесткому миру причин и следствий. Его болезнь была следствием… но чего? Здесь он останавливался, всегда останавливался в недоумении, он, для которого не было преград, для которого форсирование, преодоление преград было профессией, призванием, долгом. Боль терзала его, причин он не видел и не находил. Терпеть? Он не учился этому. Он не суеверен, нет, он не верит в чертовщину, мистику, покажите ему лицо смерти — и он смело глянет ей в пустые глазницы. Но это…

Небольшая деликатно написанная повесть о душевных метаниях подростков, и все это на фоне мифов Древней Греции и первой любви.

В эту книгу вошли шесть повестей, написанных в разное время. «Испанский триумф», «Дорога на Чанъань» и «Некоторые происшествия середины жерминаля» составляют цельный цикл исторических повестей, объединенных мыслью об ответственности человека перед народом. Эта же мысль является основной и в современных повестях, составляющих большую часть книги («Доказательства», «Золотые яблоки Гесперид», «Покидая Элем»). В этих повестях история переплетается с сегодняшним днем, еще раз подтверждая нерасторжимое единство прошлого с настоящим.Компиляция сборника Тублин Валентин.
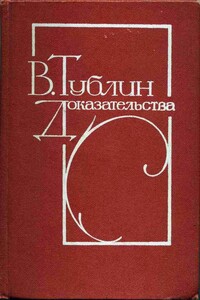
Цезарь разбил последних помпеянцев в Испании. Он на вершине успеха. Но заговорщики уже точат кинжалы…

Это книга о наших современниках, о поколении, в чье детство вошла война и послевоенные годы, а становление совпало с нелегким временем застоя. Но герои книги пытаются и в это время жить, руководствуясь высокими этическими принципами.Становление личности — главная тема повести «Где-то на Севере» и цикла рассказов.Герой романа «Заключительный период» пытается подвести итоги своей жизни, соотнося ее с идеалами нравственными, которые вечны и не подвержены коррозии времени.

Когда Карла и Роберт поженились, им казалось, будто они созданы друг для друга, и вершиной их счастья стала беременность супруги. Но другая женщина решила, что их ребенок создан для нее…Драматическая история двух семей, для которых одна маленькая девочка стала всем!

Райан, герой романа американского писателя Уолтера Керна «Мне бы в небо» по долгу службы все свое время проводит в самолетах. Его работа заключается в том, чтобы увольнять служащих корпораций, чье начальство не желает брать на себя эту неприятную задачу. Ему нравится жить между небом и землей, не имея ни привязанностей, ни обязательств, ни личной жизни. При этом Райан и сам намерен сменить работу, как только наберет миллион бонусных миль в авиакомпании, которой он пользуется. Но за несколько дней, предшествующих торжественному моменту, жизнь его внезапно меняется…В 2009 году роман экранизирован Джейсоном Рейтманом («Здесь курят», «Джуно»), в главной роли — Джордж Клуни.

Елена Чарник – поэт, эссеист. Родилась в Полтаве, окончила Харьковский государственный университет по специальности “русская филология”.Живет в Петербурге. Печаталась в журналах “Новый мир”, “Урал”.

Счастье – вещь ненадежная, преходящая. Жители шотландского городка и не стремятся к нему. Да и недосуг им замечать отсутствие счастья. Дел по горло. Уютно светятся в вечернем сумраке окна, вьется дымок из труб. Но загляните в эти окна, и увидите, что здешняя жизнь совсем не так благостна, как кажется со стороны. Своя доля печалей осеняет каждую старинную улочку и каждый дом. И каждого жителя. И в одном из этих домов, в кабинете абрикосового цвета, сидит Аня, консультант по вопросам семьи и брака. Будто священник, поджидающий прихожан в темноте исповедальни… И однажды приходят к ней Роза и Гарри, не способные жить друг без друга и опостылевшие друг дружке до смерти.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.