Покаяние как социальный институт - [4]
: Это вопрос скорее для вас и для других слушателей. Но, как я сказала во время доклада, есть разные причины. Причины, что жизнь стала труднее и сложнее, людям не хватает времени. Также некоторые считают, что если они свяжутся с этим разговором, то возникнут экономические проблемы: «У нас сейчас такие проблемы именно из-за этого. Не надо было об этом говорить, потому что ничего хорошего из этого не вышло и не выйдет». Но сейчас есть новая власть, группа людей, не только из Коммунистической партии, но те, кто работал в КГБ. Они, конечно, не работали в концлагерях, но они также были с этим связаны, они не заинтересованы в разговорах об этом. Они хотят сейчас показать себя как реформаторы, как новые люди, для них это было бы нечто стыдным. Мне кажется, что это не моя задача — объяснять вам, почему здесь что-то произошло. Мне интересно ваше мнение на эту тему.
Григорий Чудновский: Вы из Америки приехали, а мы в России живем. Осталось не до конца понятным, почему вы используете понятие «покаяние», разъясните, пожалуйста. Это вообще религиозная вещь.
Эпплбаум: Вы можете использовать и другие слова. Например, «память», «институционализация памяти» — то, что, как я сказала во время доклада, существует в других странах.
Чудновский: Я хочу понять: если лицо, допустим, диктатор, исторически виновато перед своим народом за геноцид, за Соловки, за ГУЛАГ, какая форма применялась на Западе? Там не было таких массовых репрессий, но пофантазируем. Если бы там это было, какая бы современная форма покаяния применялась к этому лицу? И еще. Ельцин, уходя на пенсию (я не имею в виду его кончину — это второй уход), пробормотал: «берегите Россию». Это что, покаяние? «Берегите Россию» — сказал напутствие или Путину или еще кому-то. Он сказал это публично, народу. Можно ли эту фразу считать покаянием человека, который был в основе реформ и их последствий? Могла бы Америка считать такую форму покаянием? Или это не покаяние вообще, а любовь: «Я так люблю Россию! Берегите! Мне на пенсии надо побыть, а вы берегите!» Покажите это примерами, если можно, хотя бы одним-двумя. Спасибо.
Долгин: Небольшое уточнение. Кроме этих слов, которые, по-моему, все-таки к покаянию никакого отношения не имеют, Борис Николаевич в своем обращении 31 декабря 1999 года извинился перед россиянами более прямым образом.
Эпплбаум: Вначале ваш первый вопрос — что бы мы делали на Западе. Есть очень много возможностей. Я несколько месяцев жила в Германии, и меня поразило, что общественный разговор о Холокосте идет все время. Это часть культуры, это сюжет для ученых, для политиков. Все время идет разговор о памятнике: где должен быть памятник, каким он должен быть. Это просто живет как живой разговор, а не только в кругу маленькой группы людей. Но, как я сказала, очень трудно найти хотя бы одну страну, где не было бы этой проблемы. Очень трудно. Но у нас в США все время, вплоть до сегодняшнего дня идет разговор о рабах в XIX в. Это наша проблема, и даже сегодня можно видеть результаты. Мы это видим, и об этом надо говорить. Но Германия, Франция, Испания, Аргентина, Чили, Камбоджа — каждая страна найдет для себя тот способ, который годится именно для ее культуры. Например, как я уже сказала, в Южной Африке тоже была такая проблемы, тоже были перемены, новый режим. Но что делать, расселять всех белых людей, которые живут в Африке? Нет. Они решили, что эти белые люди тоже имеют право жить в Африке, это также и их страна, у них нет другой страны. Но надо было дать черным почувствовать, что есть справедливость. Была проведена очень длинная сессия в парламенте, где многие люди, которые почувствовали себя жертвами этого режима, могли публично сказать об этом, рассказать, что случилось. Не было суда, не было расстрелов, но был публичный разговор об этом. Не все были согласны с тем, что это хорошо, были и те, кто хотел расстрела. Но более-менее эта проблема была решена таким образом. Есть разные методы. Я не хочу сказать, что одному человеку, Ельцину или Путину, надо сказать «Извините», не в этом дело. Надо, чтобы постоянно шли публичные разговоры, дискуссии об этом, чтобы будущие поколения тоже это обсуждали. Это важная часть истории и ментальности России.
Ольга Лобач: Добрый день. У меня есть один знакомый китаец, который был жертвой «культурной революции». При этом его отношение к современному Китаю очень близко к тому, как Вы описываете наше отношение к тому, что происходило в период репрессий. Я не спрашивала у него конкретно, он никогда не говорил и не указывал, я нигде не слышала о существовании памятников жертвам «культурной революции» в Китае. Это одна из ремарка.
Вторая ремарка, или полувопрос, заключается в следующем. Любая общественная дискуссия, или форма покаяния, или трансляция памяти, имеет свою цель — это только инструмент. Если цель — это общественное согласие, примирение людей, оказавшихся в катастрофе (а то, что происходило в России — это катастрофа национального масштаба), то нужно знать границы, где остановиться. Потому что сейчас есть примеры того, что происходит в Польше, где формально, вроде бы, восстанавливают справедливость и занимаются составлением списка тех, кому запрещено заниматься государственной деятельностью, потому что они относились к компартии Польши. В Польше проходящие суды над бывшими членами компартии, вроде бы, не приносят большого общественного примирения. Когда Вы говорите о дискуссии по поводу жертв репрессий, есть вопрос. По-моему, никто не отрицает того, что это национальная катастрофа, что жертвы были, что масштабы были чудовищны, и весь тот объем литературы и информации, который действительно реально выбросился в начале 90-х гг. на нашу читающую или интересующуюся публику, дал информацию к размышлениям. До сих пор не существует такого описания событий, политологического, исторического, который бы можно было общественно дискутировать. В этом смысле все вопросы, все общественные дискуссии по поводу жертв репрессий сводятся только к тому, что нужно фиксировать историческую память, о чем Вы и говорили. Памятники, культурные образцы, книги и культурные действия, которые бы фиксировали эту память. Но в той или иной степени это происходит. Если в обществе нет напряжения по этому вопросу, то, наверно, та дискуссия, которая идет в определенном диапазоне, достаточна для данного времени, для данного народа, в данных исторических условиях. Наверно, на этом я остановлюсь. В этом и заключается вопрос — нужно ли нам именно увеличение дискуссии по этому вопросу, или достаточна только фиксация исторической памяти? Есть ли необходимость в этом?
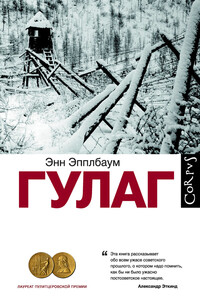
Книга Энн Эпплбаум – это не только полная, основанная на архивных документах и воспоминаниях очевидцев, история советской лагерной системы в развитии, от момента создания в 1918‑м до середины восьмидесятых. Не менее тщательно, чем хронологию и географию ГУЛАГа, автор пытается восстановить логику палачей и жертв, понять, что заставляло убивать и что помогало выжить. Эпплбаум дает слово прошедшим через лагеря русским и американцам, полякам и евреям, коммунистам и антикоммунистам, и их свидетельства складываются в картину, невероятную по цельности и силе воздействия.
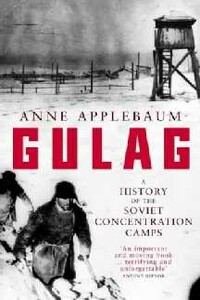
Эта книга, отмеченная Пулитцеровской премией, — самое документированное исследование эволюции советской репрессивной системы Главного управления лагерей — от ее создания вскоре после 1917 г. до демонтажа в 1986 г. Неотделимый от истории страны ГУЛАГ был не только инструментом наказания за уголовные преступления и массового террора в отношении подлинных и мнимых противников режима, но и существенным фактором экономического роста СССР. Только в пору его расцвета — в 1929–1959 гг. — через тысячи лагерей прошли около 18 миллионов заключенных.
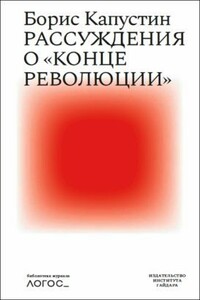
Возможна ли революция в современном мире как нечто большее, чем те «театральные» события, которые СМИ – в отсутствие «большой политики» – приучили нас считать «революциями»? Сегодня не только правые, но и многие левые теоретики дают отрицательный ответ на этот вопрос. Эта книга посвящена анализу «тезиса о конце революции». Критика этого тезиса и обосновывающих его аргументов не преследует цель доказать обратное, то есть возможность, не говоря уже о необходимости, революции. Наша цель – открыть путь той теории революции, которая освобождает последнюю от понятия прогресса и вместе с тем показывает ее как парадигмально современное явление, воздавая должное контингентному, событийному и освободительному характеру революции.
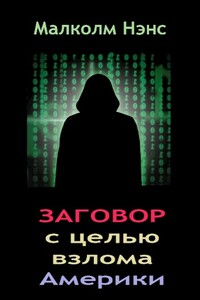
За последние десять лет Россия усовершенствовала методы "гибридной войны", используя киберактивы для атаки и нейтрализации политических оппонентов. Хакеры, работающие на правительство, взламывают компьютеры и телефоны, чтобы собрать разведданные, распространить эти разведданные (или ложные данные) через средства массовой информации, создать скандал и тем самым выбить оппонента или нацию из игры. Россия напала на Эстонию, Украину и западные страны, используя именно эти методы кибервойны. В какой-то момент Россия, видимо, решила применить эту тактику против Соединенных Штатов, и поэтому сама американская демократия была взломана.
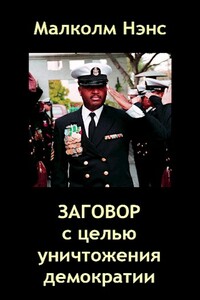
В 2016 году Соединенные Штаты подверглись нападению со стороны иностранного противника. В отличие от нападения Японии на Перл-Харбор или атаки Аль-Каиды на Всемирный торговый центр, нападение Российской Федерации нанесло удар по ядру нашей демократии - нашей свободной и справедливой системе выборов. Цель состояла в том, чтобы разрушить нашу систему самоуправления, которую мы лелеяли и использовали в качестве примера для мира на протяжении более 240 лет. Действуя тайно, используя государственные средства массовой информации и спецслужбы, Россия сумела повлиять на выборы с явной целью помочь своему предпочтительному кандидату Дональду Дж.
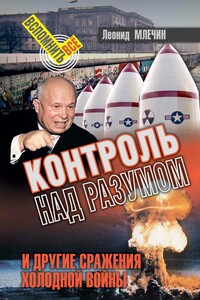
После Второй мировой войны мир раскололся на два противоборствующих лагеря. Мировое сообщество оказалось на пороге новой войны. Судьбу всего человечества в эти годы решали несколько государств. Страны разрабатывали планы ядерных атак, составляли карты бомбардировок, вели активную разведывательную и подрывную деятельность. Мировая экономика работала на наращивание ядерного потенциала. Этот период истории принято называть холодной войной.Кто же виноват в развязывании холодной войны? Можем ли мы сегодня дать объективную оценку деятельности политиков ведущих государств мира? Автор книги подробно описывает события того времени, из которых явственно следует, что официальная пропаганда не имела ничего общего с реальностью.

Карцов Юрий Сергеевич — русский дипломат и политический публицист. Близкий знакомый Константина Леонтьева. Автор интересных работ посвященных внешней политике России. После революции 1917 года жил в эмиграции. Оригинал публикуемой статьи датируется 1908 годом.
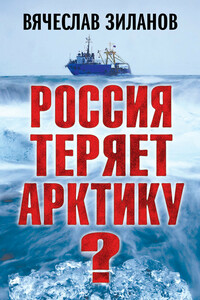
Тема Арктики всегда находится в центре внимания, однако сегодня к этому региону обращен пристальный интерес всего мира. Именно к Баренцеву морю и в целом к северным морским районам приковано внимание ведущих морских держав в связи с потеплением Арктики и соперничеством за обладание ее природными ресурсами, в том числе такими, как углеводородные ресурсы и рыбные запасы.Насколько Россия готова к такому соперничеству и чем руководствуются отечественные политики, уступая без достаточных на то оснований свои исторические морские арктические районы? Ответы на эти непростые вопросы читатель найдет в книге.Автор — В.