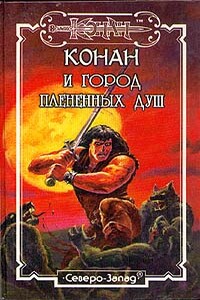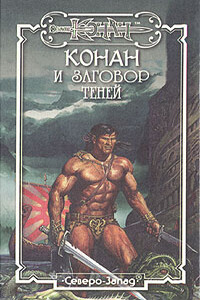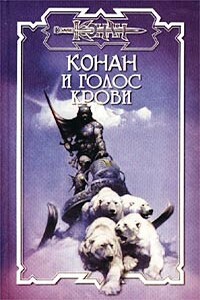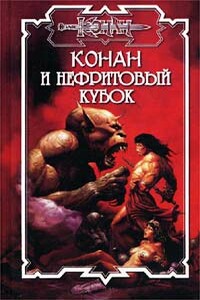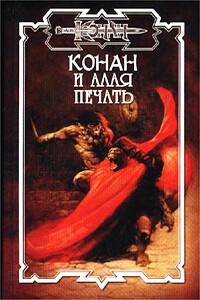С такими крамольными намерениями, опровергающими величайшее могущество солнца, варвар подошел к гарему.
* * *
Мрачные мысли одолевали Конана в середине этой ночи. И взор его, устремленный в окошко, за которым блистали бриллиантовые россыпи звезд, тоже был мрачен. Сам того не желая, киммериец вновь ощущал некое томление в области сердца, за которое справедливо винил хона Буллу, поведавшего печальную историю свою именно ему. Его всегда — и прежде, и теперь — влекла вперед жажда действия. Потому, наверное, он и взял на себя чужую клятву, ради исполнения коей проделал долгий и трудный путь от гор Кофа до моря Запада, а потом — на лодке плыл до Желтого острова, а потом — бился насмерть с гориллой Гринсвельдом, а потом — обратный путь, но уже вдвое длиннее и с вечнозеленой ветвью маттенсаи в заплечном мешке… А ныне, когда ни одно важное дело не отягощало юного варвара и тысяча дорог открывалась перед ним, маня блеском золота и влюбленными взглядами прелестных дев, несчастный старик вдруг открыл ему тайну своего прошлого — против воли Конан не мог забыть историю сию и мыслями снова и снова к ней возвращался; вот и сон его оборвался задолго до рассвета, когда привиделись ему те каменные безмолвные фигуры, в упор глядящие на него живыми глазами…
Что было в этих глазах? Он не привык разбираться в чувствах, особенно в чужих, но здесь так ясно различил неодолимую тоску и боль, ужас и безнадежность, что едва не вскрикнул от ярости и отчаяния. Почему он? Почему не кто другой должен взять на себя их беду? В конце концов, с тех пор прошло уж без малого тринадцать лет, и неужели за это время не нашлось никого, кроме него…
Далее Конан не стал продолжать мысль, досадуя на себя за то, что вообще об этом задумался. Пока что его никто и не просил о помощи и вряд ли попросит… Варвар хмыкнул, припомнив, как за вечерней трапезой хон Булла без конца глазел то на него, то на Майло, видимо боясь стычки двух молодых горячих парней, у каждого из которых нрав подобен живому вулкану — даже затихая, бурлит и клокочет жаром… Но Конан не собирался вовсе связываться с Майло. Из рассказа старика он отлично понял, что приемыш его не по собственному желанию так злобен и груб, а потому попросту не обращал внимания на его выходки, сопровождаемые непременным шипением и рычанием… После трапезы гость отозвал хона Буллу в сад и там, побуждаемый скорее так и неизгнанной пустотой внутри, нежели действительным интересом, узнал, наконец, грустный конец истории. Для Майло во всем этом явно ничего хорошего не было…
«…Схватившись за сердце, Даола взирала на каменные статуи, только что бывшие людьми из плоти и крови, и сама не могла пошевелиться. Тут и Адвента уловила чуткой доброй душенькой своей нечто темное и страшное; улыбка сошла с ее алых губ, и слезы появились в прекрасных черных глазах… И в сей миг, словно тоже почувствовав беду, сверху, со второго этажа, сбежал Майло, вслед за которым поспешал его учитель языкознания, громко сетуя на неусидчивость мальчика.
Увидев жуткую картину, центром коей являлся вредитель Тарафинелло, двенадцатилетний сын мой, не медля и мига, с рычанием кинулся на него, норовя вцепиться зубами в горло. На него, кстати, злодей тоже обратил свой колдовской взор, но без толку — на Майло отчего-то он не подействовал; зато злополучный учитель языкознания, случайно попав под него, не успел и испугаться, как застыл подобно остальным.
Тарафинелло забеспокоился. Майло, словно разъяренная собачонка, висел на нем и все крепче сжимал зубы на его горле, и никакие наговоры, что судорожно шептал гад, никакие пассы, что делал он тощими руками, на моего сына впечатления не производили. Но тут очнулась, наконец, Даола, и, скажу тебе, Конан, правду — очнулась зря. Вместо того чтоб помочь сыну справиться с Тарафинелло, она стала отрывать Майло от него! Конечно, то была просто привычка спасать от нашего мальчика всякого, кто попадался ему в момент злобы и раздражения… В четыре руки они отодрали Майло от злодея, и тот отшвырнул его в самый угол комнаты, совершенно потеряв самообладание: с маху упав на скамью, он завизжал, разбрызгивая слюну, и в бешенстве засучил ногами. Он призывал на дом мой всяческие кары; он клялся Нергалом, Сетом и прочими демонами, что уничтожит и нас и корни наши; смертоносным взглядом своим он перебил всю посуду, что стояла на столе и на полках, вдребезги расколол светильник и оконное стекло, поджег занавесь… Слава Митре, он ни разу не посмотрел на мою женушку, по всей видимости забыв о ней в ярости. Внезапно он прервал поток изливаемых гадостей, схватил в охапку Адвенту, к сему мигу также онемевшую от ужаса, и вихрем вылетел за дверь! Даола выскочила за ним, но в темноте успела заметить только, как запрыгнул он на коня, огромного будто слон (она слонов в жизни не видала, но я видал, и по ее описанию мог сравнивать), и в момент исчез во мгле и ливне…
Тут только женушка моя поняла, какую глупость совершила, оторвав Майло от гада, но было, конечно, поздно… Стеная, она вернулась в дом.
Мальчик же, к великому несчастью, падая, ударился об стену головой и потерял сознание… Скоро пришел я. Вместе с Даолой мы подняли сына, уложили его в постель и привели в чувство, но не в память — он забыл все, что произошло, а когда вспомнил, минуло уж десять лет…